Два моих крыла - [45]
— Эко место — удивила, — хохотала Дуня, когда я ей рассказала, как Калачиха шоркала в бане ковшик. — Оне же староверы, кержаки непутевые. Это вы все позабыли в городе своем, кто откуда да кто какой родовы, а в деревне, девка, крепко в ум вросло, кто какой. От дурного семени не жди хорошего племени. Какой ихний был кулацкий уклад, такой и тянут. Но бог-от видит, видит. На том и остановились эти Калачевы. А знашь, откуль фамиль ихная?
— Ну, от калача, должно быть.
— Ак как! Ишшо в крепостном праве, сказывают, дело было. Сбежал кто-то там, в Расее, от помещика, в наши края подался. Дак споймал его прадед Ефрема и привел к помещику. Того мужика забили, ентому два калача вынесли. А в деревне, сама знашь, с уха на ухо, с угла на угол… Вот те калачевски выкормыши.
— Интересно, Дуня, откуда ты всякой всячины знаешь?
— Дак ведь, девка, по народу из края в край за человеком молва собакой бежит. Но уж все теперь. Кончаются эти Калачевы. Ни котенка, ни робенка. Пустая она, как балалайка. В девках от Калачева извела плод-от, а потом, сколь ни обжирайся, не вспухнешь.
— Дунь, а чего это дед Зотей не бежит, а? Я уж сколько у тебя, а он все не бежит. Я же привезла ему книжку про цветы.
— Осподи! Ну у того хоть ума нет, а ты-то, кориспонден, туды же! Каки ишшо цветы? Где ето он выращивать-то будет? Вот уж непутевый дак непутевый всю жизнь… Ксперимент он какой делат.
— Чего-чего?
— Да! — она махнула рукой, отвернулась от меня, явно не одобряя деда Зотея за этот эксперимент и не желая даже говорить об этом. — А ить это ты, девка, подбила его, старого, на это, ну, как его, да назови ты, горячка, слово-то это…
— Пари, что ли? — от удивления я даже присела на табурет. Я ведь и забыла тот давнишний разговор, и свое предложение насчет пари, и быстрый взмах руки, рассекший воздух вместо крепкого пожатия рук.
— Вот этот пари и есть. Зотей как в Секисовку отправился со всем своим стадом, так наказывал мне: ежели ты приедешь, так чтоб туда обязательно побывала.
Вскоре Дуня убежала на вечернюю смену. Уже включили для дойки мотор, над деревней повис равномерный, ноющий звук. Я уже знала, что телятам на кормокухне делают смесь, которую по шлангу наливают в бачки, а уж оттуда Дуня с товарками разносят в ведрах это пойло. С собой Дуня прихватила две баночки майонеза, а не одну, как собиралась сперва.
— Втору-то отдам кормачу. Ну, который смесь теперь нам делат. Он мужик ничего. Даже полишку мне который раз наливат. А телята знашь как пьют! У! Привесику, привесику надо. Мясцо вам растим. Че твой манаэст! Его же ложкой хлебать не станешь. В его мясом макать хорошо.
«Вот тебе и пари», — думала я, когда ушла Дуня. Крепок дед Зотей оказался на слово.
Дед Зотей всей Секисовке был родня. У него одних только парней родилось восемь. Да семь девок. Через них постепенно и породнился со всеми. Тут и сватьи со сватовьями, кумовья с кумами, да братья с сестрами самого Зотея, их дети, внуки, девери да золовки… Характер у Зотея легкий, открытый, без загадок. Однако же не пустозвон какой.
— Эх, грамотешки бы мне! — говаривал он не раз. — Я бы спихнул нашего дирехтура. Не-не. Не из-за ревности к должности. Не подумай. Я бы с рыском пожил, с кспериментом. Сманил бы в деревню анжинеров, чтоб они мне тут механизацию настроили, дороги, как в кине показывают, — плитами. Там, за Секисовкой, ключ горячий бил. Долго. Потом заилился, как железом зарос. Мы туда еще деда своего водили ноги в ключе этом держать. Тожно же под землей море, нет, океян горячей воды. Вот Витька у меня на севера уехал нефть искать, бурыльщиком стал, ерунда он досадная, шлялка беспокойная. Но, язви тя в душу, припал к северам. До медали доробился. Вот я бы его притянул сюда — верти дырку в земле, подавай сюды горячую воду! Купайтесь, мужики-бабы, в бассейне! А ишшо бы огород под колпаком бы держал зимой. И цветы. Эх, сколь бы я цветов поразвел…
Ефрем Калачев, подсев однажды к нам, ехидно ухмыльнулся и отравил нам весь разговор.
— Вот. Угорела модница в нетопленой горнице! Цветы да фасады тебе разукрашивать. Люди — те думают об еде, а ты все цветами бредишь.
— А ты че сюды присел, Калачев? — нахохлился дед Зотей. — Ты ковер купил, на пол его положил, а в горницу и не заходишь. Ты каки цветы на том ковре запрятал!
— Я че? У тебя деньги-те займовал на него? Сам купил. Че хочу, то и ворочу.
Я сидела, слушала их перепалку и видела этот ковер. Говорят, существуют в наших городских квартирах диванные комнаты, которые застилают коврами, чтобы редким гостям все это лишний раз напомнило о достатке хозяев. А вот Калачевы завешали свою горницу коврами совсем не для чужого глаза. Это было их добро, которое они любовно выбивали, чистили, берегли. Ковер в горнице был отогнут почти наполовину, чтобы можно было пройти к окну. Если к празднику и разгибали его во всю великолепную ширину, то застилали сверху серой марлей, чтобы и пылинка не села. Они холили вещи, как детей. Однажды в их кухне появилась японская болонка, купленная за большие деньги в Тюмени. Это была веселая собачонка. Ей предстояло удесятерить в самом ближайшем будущем сумму, которая была затрачена на ее покупку. Калачев лично выгуливал ее на поводке у озерка, носил на руках в ненастную погоду, она была как свинья, корова или гусыня, которых надо было беречь и ухаживать за ними, чтобы не «прогореть», не просчитаться. Болонка выросла. И Калачев с тревожным смешком жаловался мне, что вот пора вроде к кобельку, а она все без беспокойства. Уж он ей и мясца сырого, и яичка всмятку, а она — ни в какую. Наконец повез он болонку в райцентр к ветеринару. И обнаружилось, что в кудрях этих длинных прячется не она, а он. Калачев тут же завернул на рынок и взял на десятку больше, чем стоил ему этот веселый кобелек.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

Анатолию Емельянову присущ неиссякаемый интерес к жизни сел Нечерноземья.Издавна у чувашей считалось, что в засушливом году — тринадцать месяцев. Именно в страшную засуху и разворачиваются события заглавной повести, где автор касается самых злободневных вопросов жизни чувашского села, рисует благородный труд хлеборобов, высвечивает в характерах героев их высокую одухотворенность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли произведения известных и малоизвестных широкому кругу читателей авторов, которые занимали и занимают свое место в истории, становлении и развитии нашей литературы, — рассказы А.Фадеева, К.Федина, Ю.Тынянова, В.Каверина и других советских писателей. Многие из этих авторов знакомы читателям как авторы романов, драматических произведений. И в этом сборнике они открываются с новой стороны.
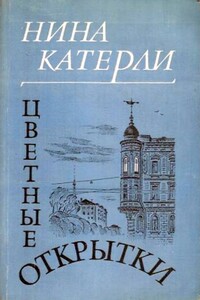
«Цветные открытки» — вторая книга ленинградской писательницы. Первая — «Окно» — опубликована в 1981 году.
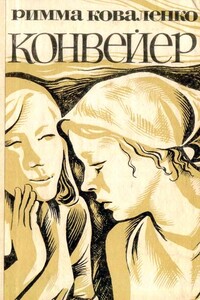
С писательницей Риммой Коваленко читатель встречался на страницах журналов, знаком с ее сборником рассказов «Как было — не будет» и другими книгами.«Конвейер» — новая книга писательницы. В нее входят три повести: «Рядовой Яковлев», «Родня», «Конвейер».Все они написаны на неизменно волнующие автора морально-этические темы. Особенно близка Р. Коваленко судьба женщины, нашей современницы, детство и юность которой прошли в трудные годы Великой Отечественной войны.
