Два долгих дня - [32]
«Готовность отразить удар вовсе не обязывает к грубому ответу, — подумал он, — можно и не обидно высмеять; можно и защищаться молча». А вслух добавил:
— Не буду врать: я член НСДП. Иначе я бы давно вылетел из клиники. Я хотел работать; это не такой уж большой грех. Иногда у человека не остается выбора. У вас есть немало раненых, которым я могу быть полезен. Я прошу вашего разрешения на операцию одного из них.
— Вы имеете в виду мальчика-партизана? — спросил Верба.
— Вы мне не доверяете? Сомневаетесь в моем умении? К сожалению, я лишен возможности показать мои научные работы. Впрочем, можете проверить: в тридцать первом году меня дважды цитировали ваши ученые.
«Если допустить Луггера к операциям, что скажут наши раненые? Как отнесется к этому мое начальство? Ладно, если все кончится хорошо. А если неудачный исход? В ответе буду я один. С Луггера что возьмешь?»
Сердце и рассудок спорили между собой; Верба понимал, что самое безопасное — отказать Луггеру; и все же он чувствовал симпатию к этому немцу, да и хирург-окулист был для госпиталя бесценным приобретением. Он шагнул к окну: непрерывная цепочка автомобилей тянулась к госпиталю, среди них виднелся санный обоз с кибитками, из труб которых поднимался дымок. На бортах грубо намалеваны красные кресты.
— Так что вы хотите? — спросил он наконец Луггера, будто тот только что вошел в его кабинет.
— Я был бы признателен, если бы мне разрешили оперировать мальчика Андриана, — ответил Ганс. — Это было бы для меня и экзаменом, и большим счастьем.
— В вашем желании есть много хорошего. Похвальна и готовность, с которой вы беретесь за его выполнение. Я сообщу вам… — он чуть было не сказал «коллега», но, вовремя спохватившись, добавил: — Окончательное решение я вам сообщу…
Луггер вежливо кивнул и заковылял обратно в палату.
— …Ты меня не понимаешь или не хочешь понять, — втолковывал Верба Михайловскому. — Не я его заставил делать операцию, а он сам, чуть ли не со слезами на глазах, умолял меня о разрешении.
— А где гарантия, что нас с тобой не высекут за это благородное начинание? Хотя бы за то, что мы не знаем степени квалификации этого немца. Сам знаешь: в глазных операциях я полный профан.
— Вот уж не думал, что ты такой осторожный.
— Жена Цезаря должна быть выше подозрений, — отшутился Михайловский.
— Ты предлагаешь ждать у моря погоды. А известно тебе, что аэродром разбит: раньше чем через двое-трое суток санитарная авиация не задействует.
— Пусть комиссар нас рассудит! — ответил Анатолий, увидев приближающегося к ним Самойлова. — Как ты думаешь, Леонид, можно доверить Луггеру операцию?
— Могу сказать лишь одно: Луггер тянется к нам, и мне кажется, что отталкивать его по меньшей мере глупо, — ответил тот. — Не все немцы слеплены из одного теста, и, думаю, мы вполне можем рассчитывать на Луггера.
— Так ведь… — начал было Михайловский, но Верба оборвал его:
— Хватит! Что ты заладил одно и то же! Я верю в добрые побуждения Луггера. А тебе не позволю стоять в стороне, когда он будет оперировать мальчика.
Михайловский вынужден был повиноваться.
Сообщение Леонида Даниловича о приезде в госпиталь московских артистов Верба слушал вполуха. Разговор о концерте казался ему сегодня не только нелепым, но и бестактным. Да, он любил Гаркави, еще со студенческих лет он восхищался его умением завладевать вниманием публики, вспоминал, с каким блеском тот погасил начавшуюся панику во время бомбежки госпиталя летом сорок первого года. Но сейчас…
Не скрывая раздражения, Нил Федорович сказал Самойлову, что после всего пережитого у него нет никакого желания улыбаться, хлопать в ладоши, и вдруг начал заикаться:
— На-на-дер-дер-усь сей-сей-час, кк-ак саа-пожж-ник и лля-гуу на три-трис-та мин-ннут сс-на! Или нн-нет? Ты… ты, что нне видд-дишь, чч-то зассы-паю на ххо-ду!
— Погоди! — пробормотал Самойлов. — Вид у тебя действительно отвратительный, но что же делать, Нил? Им восвояси отчалить? Отказаться? Некрасиво получится. Досадно!
Наступило неловкое молчание. Верба, хорошо знавший Самойлова, понимал: тот от своего уже не отступится.
— Где они сейчас? — он еще какое-то время оставался растерянным.
— Велел, пока суть да дело, накормить ужином, — небрежно бросил Самойлов.
— Я так и предполагал. Сколько времени продлится концерт?
— Час-полтора, — поглядывая на него с ласковой усмешкой, отозвался Самойлов.
Только сейчас Верба начал понемногу выходить из тупого оцепенения, в котором пребывал весь этот длинный день. Он чувствовал, как у него в груди сжимается комок.
— Что ж, наверное, ты, как всегда, прав, — с трудом проговорил он. — Не будем терять времени, пошли к ним, поужинаем. — И он послушно встал.
Самойлов плеснул спирта в стакан, разбавил водой и протянул ему.
Верба выпил залпом и уже увереннее направился к выходу.
Вскоре начался концерт. Верба был невнимателен, и если бы кто-нибудь позже попросил его пересказать программу, вряд ли он смог бы сделать это. Он словно и наблюдал за всем происходящим, и одновременно ничего не замечал: память не фиксировала события. На выступление артистов реагировало лишь его чувство, как бы оторвавшееся вдруг от способности анализировать. Но, может быть, именно из-за этого он отчетливо понял потом, зачем нужны раненым концерты. Конечно, их живительную силу он, постиг давно, но то было абстрактное знание, не подтвержденное собственным опытом. Теперь же, глядя на певцов, аккомпаниаторов, конферансье, он вдруг почувствовал, что его отпустило напряжение, владевшее им весь этот день. Знакомые имена артистов заставили его на минуту почувствовать себя в довоенном времени; нервы, измотанные до предела, получили необходимую порцию спокойствия. Они снова обрели прочность, и Верба был готов к новым испытаниям.
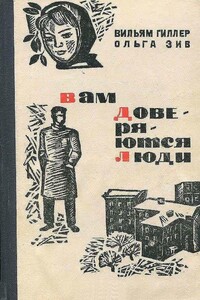
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Действие романа развертывается в наши дни в одной из больших клиник. Герои книги — врачи. В основе сюжета — глубокий внутренний конфликт между профессором Кулагиным и ординатором Гороховым, которые по-разному понимают свое жизненное назначение, противоборствуют в своей научно-врачебной деятельности. Роман написан с глубокой заинтересованностью в судьбах больных, ждущих от медицины исцеления, и в судьбах врачей, многие из которых самоотверженно сражаются за жизнь человека.
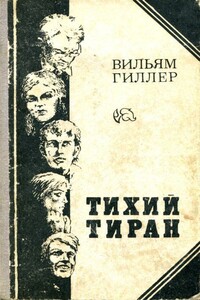
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Все приезжают в Касабланку — и рано или поздно все приходят к Рику: лидер чешского Сопротивления, прекраснейшая женщина Европы, гениальный чернокожий пианист, экспансивный русский бармен, немцы, французы, норвежцы и болгары, прислужники Третьего рейха и борцы за свободу. То, что началось в «Касабланке» (1942) — одном из величайших фильмов в истории мирового кино, — продолжилось и наконец получило завершение.Нью-йоркские гангстеры 1930-х, покушение на Рейнхарда Гейдриха в 1942-м, захватывающие военные приключения и пронзительная история любви — в романе Майкла Уолша «Сыграй еще раз, Сэм».

Хотя горнострелковые части Вермахта и СС, больше известные у нас под прозвищем «черный эдельвейс» (Schwarz Edelweiss), применялись по прямому назначению нечасто, первоклассная подготовка, боевой дух и готовность сражаться в любых, самых сложных условиях делали их крайне опасным противником.Автор этой книги, ветеран горнострелковой дивизии СС «Норд» (6 SS-Gebirgs-Division «Nord»), не понаслышке знал, что такое война на Восточном фронте: лютые морозы зимой, грязь и комары летом, бесконечные бои, жесточайшие потери.
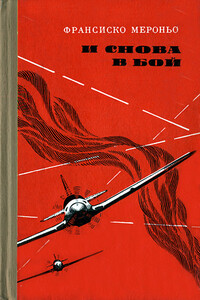
В книге испанского летчика Франсиско Мероньо, сражавшегося против франкистов в 1937–1939 годах и против немецко-фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывается об участии испанских летчиков в боях за Москву, Сталинград, на Курской дуге, а также об их борьбе в партизанских отрядах.Автор показывает и послевоенную мирную жизнь испанских летчиков в Советской стране, их самоотверженный труд на фабриках и заводах.
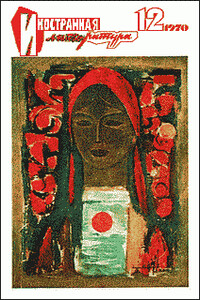
Роман опубликован в журнале «Иностранная литература» № 12, 1970Из послесловия:«…все пережитое отнюдь не побудило молодого подпольщика отказаться от дальнейшей борьбы с фашизмом, перейти на пацифистские позиции, когда его родина все еще оставалась под пятой оккупантов. […] И он продолжает эту борьбу. Но он многое пересматривает в своей системе взглядов. Постепенно он становится убежденным, сознательным бойцом Сопротивления, хотя, по собственному его признанию, он только по чистой случайности оказался на стороне левых…»С.Ларин.

Вскоре после победы в газете «Красная Звезда» прочли один из Указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении фронтовикам звания Героя Советского Союза. В списке награжденных Золотой Звездой и орденом Ленина значился и гвардии капитан Некрасов Леопольд Борисович. Посмертно. В послевоенные годы выпускники 7-й школы часто вспоминали о нем, думали о его короткой и яркой жизни, главная часть которой протекала в боях, походах и госпиталях. О ней, к сожалению, нам было мало известно. Встречаясь, бывшие ученики параллельных классов, «ашники» и «бешники», обменивались скупыми сведениями о Леопольде — Ляпе, Ляпке, как ласково мы его называли, собирали присланные им с фронта «треугольники» и «секретки», письма и рассказы его однополчан.

Он вступил в войска СС в 15 лет, став самым молодым солдатом нового Рейха. Он охранял концлагеря и участвовал в оккупации Чехословакии, в Польском и Французском походах. Но что такое настоящая война, понял только в России, где сражался в составе танковой дивизии СС «Мертвая голова». Битва за Ленинград и Демянский «котел», контрудар под Харьковом и Курская дуга — Герберт Крафт прошел через самые кровавые побоища Восточного фронта, был стрелком, пулеметчиком, водителем, выполняя смертельно опасные задания, доставляя боеприпасы на передовую и вывозя из-под огня раненых, затем снова пулеметчиком, командиром пехотного отделения, разведчиком.