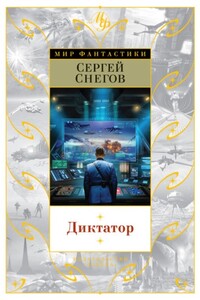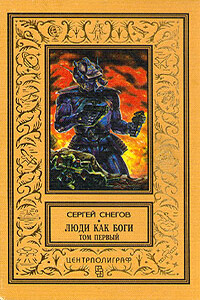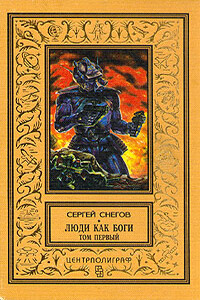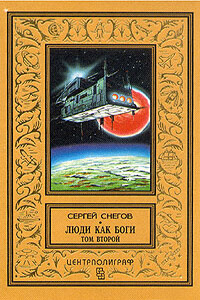Лев жил тогда на Московском проспекте в небольшой комнатушке, книги на столе и на стульях, неубранная постель, сравнительно чисто, но впечатление какой-то застарелой запущенности. И сам он, одетый в чистое, но помятое белье, небритый, потолстевший, посеревший, казался запущенным и неустроенным. Он узнал меня быстро — в следующую встречу, лет через десять, он припомнил меня не сразу, за те новые десять лет, мы переменились радикальней, чем за предшествующие двадцать.
Разговор был оживленный — под водку или коньяк, не помню что[7], но что-то, естественно, было. Вспоминали «тихим, незлым словом» лагерное бытие, а потом я напомнил Льву о несостоявшейся дуэли.
—Не пора ли разделаться со старыми долгами? Лично я не возражаю.
—Да, дуэль должна быть, — согласился он.— И причины у нее, конечно, были серьезные. Но, видишь ли, не помню причин нашей ссоры, Так что в дуэли теперь нет резона. Или ты считаешь по-другому? Я считал, что и двадцать с лишком лет назад не было резона в дуэли, а сейчас тем более. И мстительно напомнил Льву, как развивалась наша ссора. Сперва жюри конкурса поэтов выше всех оценило мои стихи, а произведениям Льва отвело второе место. И он счел, что я коварно подвел его, ибо он поэт и долженвпоследствии стать писателем, а я ученый и должен в дальнейшем быть только ученым — негоже поэту пропускать в родной стихии вперед какого-то ученого. И еще я напомнил, что неудачно высказался о Богородице, отнюдь не желая оскорблять ее, а он принял мои слова за поношение религии — и не стерпел этого.
И я злорадно закончил:
— Скажи мне теперь, профессор, кто из нас стал писателем, а кто ученым? Не кажется ли тебе, что в той оценке моих стихов была какая-то внутренняя справедливость?[8]