Другое начало - [22]
Но захватывает сладость ухода в землю. «Тебе — белый свет, пути вольные, тебе зорюшки колокольные. А мне ватничек да ушаночку. Не жалей меня, каторжаночку» (включается в поздние стихи). «Услаждала бредами, пением могил. Наделяла бедами свыше всяких сил. Занавес неподнятый, хоровод теней, — оттого и отнятый был мне всех родней» (Последняя песенка, 1964). Захватывающая острота не в достижении или успехе, а в непосильной беде или несравненном горе.
Что у всех на душе, то у поэта на языке. Близость нездешнего рая убедительно, с нечеловеческой достоверностью, вот уж действительно лишний раз подтверждается неудачей всякого нашего устроительного усилия. Тем теснее присутствие того, от чего мы всегда далеки. В точности нашего опоздания к сотворению мира вся наша опора. Мы твердо знаем, что то, чем мы всегда обделены, нас не подведет.
Пушкинский мир
Сказать о работе В. Непомнящего[22] что она посвящена Пушкину, его духовной биографии, недостаточно. Здесь уместнее старое выражение: писатель посвящен и посвящает в то, что значится в заглавии его книги. Пушкинское присутствует в ней не как предмет, а как стихия.
Книгу можно читать и как первое введение в Пушкина и как раздумье о полутора веках пушкинистики. Выверенным итогом сегодняшнего знания звучат например формулы Непомнящего об историческом месте Пушкина на водоразделе русской культуры: он не умещается в послепетровскую эпоху, его деятельность заживляла трещину между петербургской и старомосковской Россией, восстанавливала национальную целостность; а с другой стороны, «у Пушкина есть стихотворения лермонтовские и некрасовские, есть гоголевские сюжеты и тютчевская космичность, есть чеховская деталь, прутковский юмор и блоковские строки… он как бы является ее [последующей русской литературы] зеркалом — зеркалом, обращенным в будущее».
В книге Непомнящего движение разнообразно, вещи открываются под неожиданным углом. Народная тропа к Пушкину и его «Пророк» как поэтическое откровение; детская простота и прозрачная высь его слова, которое «не сверкает, не гремит, а почти безмолвствует»; стояние поэта в истине между жестокой властью и непониманием своих же единомышленников; его супружество как поступок традиционной нравственности, род аскезы (Вл. Соловьев); звонкая вселенная пушкинских сказок; не отдельная личность, а историческое тяготение народа к Истине как действующее начало «Бориса Годунова»; срединная эпоха собирания и создания поэтом самого себя — «Евгений Онегин»; пушкинский дар, выходящий далеко за пределы литературы, — это всё еще только внешняя нить повествования.
Характер итога-введения делает книгу обещанием новых путей. Автор прокладывает их, ставя вопрос о пушкинском мире в том особенном смысле этого слова, о котором мы сейчас скажем. Через Пушкина, сквозь блеск его слова и с его помощью он пытается вглядеться в то самое, на что смотрел поэт, держать в поле зрения пространства, где обрывается слово.
Читатель вправе с опаской отнестись к готовности исследователя говорить о том, чего поэт не сказал. Пушкин как мало кто другой запрещает отрываться от конкретности. Перед ним глупо, стыдно теоретизировать. Но одностороннее следование за фактом завело пушкинистику в другую крайность. Обнаружение документов, выявление и сопоставление обстоятельств это всё-таки лишь находки. Достижением в науке о литературе следовало бы называть открытие за пределами литературоведения.
Мысль автора в том, что пушкинский мир не принадлежит эстетической сфере и не витает отдельно от реальной действительности. Он один из истинных обликов единственного настоящего мира среди многих поддельных. Пушкин — здесь Непомнящий, как нам кажется, возвращает поэта в верную историческую перспективу — расстается с «философией потребления мира человеком», «узурпации вселенной». Пушкинский мир пространство света, правды, строя, вне которого нет места для надежного человеческого обитания. Этот мир неприступен как сам свет; им нельзя овладеть и распорядиться; он захватывает нас и заранее уже распорядился нами тем, что впустил нас в себя или не впустил.
На просторе этого мира поэт встречается с народом раньше чем успевают заметить исследователи патриотической и национальной тематики. Народ подобно поэту, но раньше поэта бескорыстно дал слову слыть, добровольно оставшись в молчании. Мерой этого «оглушительного молчания» (293) отмерен выношенный им язык. Своим безмолвием народ, отпустивший слово на волю, вызвал поэта, который претворяет народное безмолвие в голос. Как народ поэт чуток к свободному звучанию слова в момент, когда оно, отпущенное, полно неожиданностей, само говорит и укладывается в окончательном значении не по воле индивида, а по воле бытийной правды. В волшебной тишине поэтического мира слышно, как слово, не терпя насилия, на просторе истории в конечном счете говорит само, стряхнув «узурпаторов»(329).
В. Непомнящий показывает, как в структуре пушкинских вещей сквозит сказка. Это так, хотя едва ли дело в«изучении зрелым мастером» того, что позднее было названо поэтикой и морфологией сказки. До сказки уже был сказ языка с его широкой правдой. Прежде чудесных перипетий сказки, заранее вмещая их, расположилась «структура» самого по себе слова как славы. Поэтому «миф и слух» для Пушкина были«более реальны чем твердый и статичный факт» (435): само слово — исконный сказ и сюжет сюжетов. Сорвавшись с кончика языка, оно свободно говорит о вольном мире чуть раньше приговора судьбы.«Представь себе ее [судьбу] огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» (из письма Пушкина к Вяземскому). Непомнящий не поясняет загадочный контрапункт к этому месту из набросков Пушкина о народной драме: «Драматический поэт, беспристрастный как судьба…» Поэт подвластен судьбе и он же в конце концов опережает ее в своем «пламенном бесстрастии», берет ее в светлый круг слова. Зачем? чтобы дублировать ее? не нравственнее ли было бы негодовать и возмущаться? Спрашивающие так не задумываются над тем, что прежде чем стать нравственным человек должен был увидеть себя свободным.
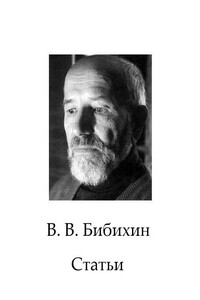
Статьи В. Бибихина, размещенные на сайте http://www.bibikhin.ru. Читателю надо иметь ввиду, что перед ним - не авторский сборник и не сборник статей, подобранных под ту или иную концепцию. Статьи объедены в чисто технических целях, ради удобства читателя.
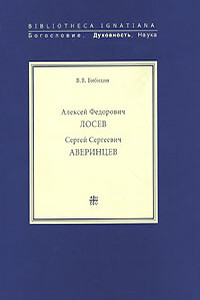
Верстка моих старых записей с рассказами и разговорами Алексея Федоровича Лосева заканчивалась, когда пришло известие о кончине Сергея Сергеевича Аверинцева. Говорить об одном, не вспоминая о другом, стало невозможно. Поэтому, а не по какому-нибудь замыслу, эти два ряда записей оказались рядом, связанные между собой только тем, что оба созданы захваченностью перед лицом удивительных явлений, в конечном счете явлений Бога через человека, и уверенностью, что в нашей жизни надо следовать за звездами.Не бывало, чтобы где-то был Аверинцев и это был не праздник или событие.
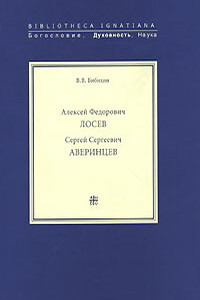
«Скажу по секрету, я христианин. Для меня величайшее достижение в смысле христианского подвига — исихазм… Как-то в жизни должно быть всё по-другому…Меня привлекает идеал άπλωσις, опрощения; всё настоящее, мне кажется, настолько просто, что как бы и нет ничего. В том же смысле я понимаю и θέωσις, обожение. Человек становится как бы Богом, только не по существу, что было бы кощунством, а по благодати. В опрощении, в обожении происходит возвышение веры над разумом. Ничего рассудочного не остается. И даже о самом Боге человек перестает думать.

Книга, вышедшая впервые в 1994 г., содержит с небольшими исправлениями курс, прочитанный в осенний семестр 1989 года на философском факультете МГУ им. Ломоносова. Рассматриваются онтологические основания речи, особенности слова мыслителей, его укоренение в существе и истории языка. Выявляются основные проблемы герменевтики. На классических примерах разбираются ключевые понятия логоса, мифа, символа, трансценденции, тела. Решается вопрос об отношении философии к богословию. В конце книги обращено внимание на ситуацию и перспективы мысли в России.Курс предназначен для широкого круга людей, увлеченных философией и филологией.
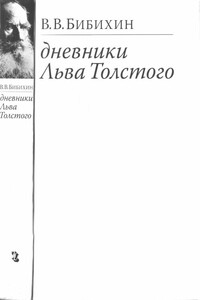
Впервые публикуется курс лекций, прочитанный В. В. Бибихиным на философском факультете МГУ в осенний семестр 2000 г. и в весенний семестр 2001 г.«Дневники Толстого и его записные книжки это вспышки озарений, и как человек чтобы быстро что-то записать хватает карандаш, гвоздь, так Толстой первые подвернувшиеся слова. Понятийный разбор этих записей даст нуль, единственный шанс — увидеть искру, всегда одну, которая ему осветила тьму и тут же погасла… В основании всего, в разуме бытия, живого и он уверен что неживого тоже, он видит любовь и поэзию.

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами.
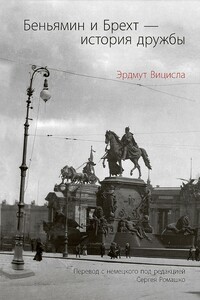
Начать можно с начала, обратив внимание на заглавие книги, вернее — на подзаголовок: Die Geschichte einer Freundschaft, то есть «История (одной) дружбы». И сразу в памяти всплывает другая книга: в 1975 году уже старый Гершом Шолем опубликовал воспоминания о Вальтере Беньямине с точно таким же подзаголовком. Конечно, подзаголовок ни в том, ни в другом случае оригинальностью не отличается. И всё же невозможно отделаться от впечатления, что вышедшая значительно позднее книга Вицислы вступает в дискуссию с Шолемом, словно бы отвечая ему, что дружба-то была не одна.

Убедительный и настойчивый призыв Далай-ламы к ровесникам XXI века — молодым людям: отринуть национальные, религиозные и социальные различия между людьми и сделать сострадание движущей энергией жизни.

Первая в России книга о патафизике – аномальной научной дисциплине и феномене, находящемся у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, таких как абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и др. Само слово было изобретено школьниками из Ренна и чаще всего ассоциируется с одим из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри (1873–1907). В книге английского писателя, исследователя и композитора рассматриваются основные принципы, символика и предмет патафизики, а также даётся широкий взгляд на развитие патафизических идей в трудах и в жизни А.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Эрик Вейнер сочетает свое увлечение философией с любовью к кругосветным путешествиям, отправляясь в паломничество, которое поведает об удивительных уроках жизни от великих мыслителей со всего мира — от Руссо до Ницше, от Конфуция до Симоны Вейль. Путешествуя на поезде (способ перемещения, идеально подходящий для раздумий), он преодолевает тысячи километров, делая остановки в Афинах, Дели, Вайоминге, Кони-Айленде, Франкфурте, чтобы открыть для себя изначальное предназначение философии: научить нас вести более мудрую, более осмысленную жизнь.