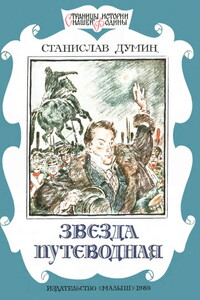Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) - [6]
Гедимин сохранил контроль над древним Полоцком, где уже давно утвердилась литовская династия. После смерти сына Товтивила, Константина Безрукого, полоцкий «стол» достался не его сыну, а брату Гедимина Воину. Около 1318 г. старший сын Гедимина Ольгерд женился на дочери витебского князя и вскоре унаследовал удел умершего тестя. Подчинилось Гедимину и Минское княжество. На западе войска литовского князя довольно успешно отражали нападения крестоносцев. Как и Миндовг, Гедимин умело балансировал между восточным и западным христианством. Не ущемляя прав православной церкви, он пытался влиять на церковные дела, чтобы поставить в митрополиты своего кандидата, а в случае неудачи — оторвать подвластные ему земли от общерусской митрополии, создав для Великого княжества Литовского особую церковную иерархию. Одновременно он не прекращал контактов с католической церковью. Заключив соглашение с Ригой, Гедимин с ее помощью отправил несколько посланий папе Иоанну XXII, обещая ему крестить Литву по западному обряду и обвиняя орденских рыцарей в том, что они жестокими набегами отвращают литовцев от христианства. В 1324 г. в Литву прибыло папское посольство. Но против планов введения католицизма выступила и языческая литовская знать, и «русины», т. е. представители православного населения, с позицией которого Гедимин не мог не считаться. «Король Литвы и Руси», как именуют Гедимина некоторые западные документы того времени, прекрасно понимал, что источником силы его государства являются обширные славянские земли.
Для укрепления и расширения своей державы великий князь использовал все доступные средства: и династические союзы, и соглашения с местным боярством, и, разумеется, военную силу. В последнее время (прежде всего в белорусской литературе) разгорелся спор о том, создано ли Великое княжество Литовское в результате завоевания Руси Литвой или в результате их соглашения. Спор этот, наверное, следовало бы перенести в иную плоскость. Ни одно из средневековых государств конечно же не возникло в результате свободного волеизъявления граждан, и даже на Московской Руси в те времена еще не заседали съезды народных депутатов. В борьбе побеждало то княжество, которое оказывалось сильнее. Но его власть над подчиненными территориями могла осознаваться местными жителями как чужеземная, навязанная силой, ненужная им,>уне отвечающая их потребностям,— и тогда население мечтало о свержении этой власти, при каждом удобном случае пытаясь добиться независимости. Так было с ордынским игом на Руси, властью крестоносцев в Прибалтике и т. д. Бывало и по-другрму: насильственно осуществленная ликвидация удельных княжеств в конечном итоге могла иметь прогрессивное значение, усиливая государство, отвечая тенденции к сближению этих земель в рамках единого государства, федерации. Установление власти литовских князей в тех или иных русских княжествах далеко не всегда проходило гладко. У литовского князя были противники — и устраненные от власти представители местных династий, и часть боярства, и просто жители, боявшиеся перемен и предпочитавшие жить по-старому. Но в целом расширение Великого княжества проходило сравнительно мирно, поскольку условия присоединения земель к этому государству способны были удовлетворить наиболее влиятельные круги местного населения: боярство, горожан и (с оговорками) церковь.
Все эти черты литовской политики довольно ярко проявились на юге Руси.
Киев, старая столица Рюриковичей, с трудом поднявшаяся из развалин после Батыева разорения, в результате новых ордынских набегов пришла в полный упадок. Во время похода на Правобережье Днепра войск хана Токты в 1300 г. митрополит Максим, «не терпя татарского насилия, остави митрополию и сбежа из Киева», и даже «весь Киев разбежался». Максим нашел убежище в Северо-Восточной Руси, но старая церковная столица Руси сохраняла свое каноническое значение, и еще в 1380 г. константинопольский патриарх разъяснял, что нельзя возглавить русскую церковь, «не получив сначала наименования по Киеву, который есть соборная церковь и главный город всей Руси».
В конце 20— начале 30-х годов XIV в. Киевское княжество признает верховную власть Гедимина. Киевский князь Федор (по всей вероятности, брат Гедимина) поддерживает его в борьбе с соперниками. Но обстоятельства окончательного перехода Киевской земли под власть Великого княжества до конца не выяснены. В ряде западнорусских летописей сохранился красочный рассказ о походе Гедимина 1323—1324 гг. на Житомир и Овруч, о разгроме на реке Ирпень близ Белгорода сил киевского князя Станислава и его союзников, об осаде Киева, продолжавшейся месяц, после чего защитники сдались Гедимину и признали его власть, оговорив сохранение своих «отчин», причем тогда же его власть якобы признали и «пригородки» Киева — Вышгород, Канев, Путивль, Переяславль и др. Но есть веские основания сомневаться в точности летописного известия (в частности, вызывают сомнение имена союзников киевского князя, ряд других деталей). Во всяком случае, в это время Киевская земля попадает в зависимость от Великого княжества, сохраняя на некоторое время и вассалитет по отношению к Орде (в 1331 г. при князе Федоре находились ханские баскаки). Компромисс этот был непродолжительным, и, укрепив свои позиции на юге Руси, Великое княжество, как уже говорилось, приступит в будущем к решительной борьбе с Ордой.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.