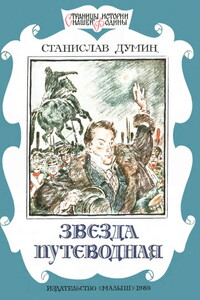Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) - [5]
Литовскому князю удалось восстановить свой сюзеренитет над Витебском, Полоцком (там правили то литовские, то западнорусские князья). Своим наследником бездетный Войшелк назначил зятя Шварна. После смерти Шварна на ту же роль претендовал его брат Лев Данилович. Войшелк этому воспротивился, и тогда галицкий князь весной 1267 г., вызвав литовского государя для переговоров, вероломно убил его.
Ближайшее будущее показало, что балто-славянское государство, сложившееся в Западной Руси и Литве, представляет собой вполне жизнеспособный и устойчивый организм, способный преодолеть династический кризис. Но со смертью Войшелка с политической арены Великого княжества сошел единственный человек, способный в тот момент осуществить крещение Литвы по православному обряду, а следовательно, преодолеть религиозно-национальный дуализм, свойственный этому государству с момента его создания.
Впрочем, само по себе сохранение коренной Литвой и Жмудью язычества лишь в слабой степени влияло на внутреннюю политику государства. Поклоняясь в Литве священным дубравам и принося жертвы Перуну, на русских землях литовские князья окружали заботой православную церковь. Более высокий уровень развития феодальных отношений, характерный для славянских земель, традиции древнерусской культуры позволили им не только полностью сохранить свою самобытность, но и оказать весьма существенное влияние на строй коренной Литвы. Если ордынцы несли в завоеванные страны свою систему управления и эксплуатации, безжалостно уродуя местные общественные структуры, чтобы приспособить их для нужд своей империи, то литовские князья вели себя в русских княжествах так же, как в свое время варяги: принимали местные обычаи, управляли «по старине», сохраняли сложившуюся ранее систему собственности. Литовские феодалы усваивали язык и письменность восточных славян; постепенная славянизация коренных литовских земель, продолжавшаяся в течение нескольких столетий, все больше ограничивала ареал распространения литовского языка (хотя Жмудь этим процессом была затронута слабо). Именно язык восточнославянского населения этого государства стал официальным (фактически государственным) языком, сохранив этот статус до конца XVII в. Все это закономерно предопределило отмеченное выше отношение к Великому княжеству его восточнославянского населения: оно с тем же правом, что и литовцы, считало это государство своим.
Нельзя, однако, отрицать, что именно динамичный литовский элемент (в частности, пополнявшее княжеские дружины свободное крестьянство) способствовал активизации западнорусского боярства, его непосредственному участию в осуществлении литовской политической программы. Стремление литовских князей расширить свои владения объективно отвечало реальному стремлению восточнославянских земель к объединению. Поэтому в данном регионе литовские князья взяли на себя функцию, в других частях Руси выполняемую тамошними Рюриковичами.
Подобная задача была поставлена уже Миндовгом и Войшелком. При их преемниках, несмотря на междоусобицы, расширение связей Литвы с другими русскими землями, утверждение литовских князей в различных центрах Западной Руси готовило почву для будущей консолидации. Осуществление этой объединительной программы в широких масштабах связано с именем великого князя Гедимина (1315—1341).
Составленное в Московской Руси «Сказание о князьях Владимирских» называет Гедимина бывшим конюхом князя Витенеса. Витенес якобы был убит громом, а женившийся на его вдове Гедимин захватил власть над Литвой и Западной Русью, незаконно присвоив дань, которую он собирал с этих земель для московского князя. Эта колоритная легенда отразилась и в литовских хрониках XVI в., приписывающих Гедимину убийство Витенеса. Большинство историков, впрочем, считает ее позднейшей выдумкой (с целью дискредитировать литовскую династию, представив Гедиминовичей узурпаторами власти). Некоторые летописи называют Гедимина сыном Витенеса, но, вероятнее всего, они были братьями.
Гедимин царствовал четверть века, раздвинув далеко на юг и восток границы своей державы. В те годы московские и тверские князья, оспаривая в Орде Владимирское великое княжение, еще не помышляли о решительной схватке с ней. Именно Великое княжество Литовское и Русское стало при Гедимине центром антиордынской борьбы; опираясь на его поддержку, западнорусские земли надеялись сбросить ненавистное иго. В 30-е годы XIV в. заключил с Гедимином договор о взаимной помощи смоленский князь Иван Александрович, признавший себя «младшим братом», т. е. вассалом, литовского государя. Разгневанный этим союзом хан Узбек в 1339 г. послал на Смоленск свою рать с Тавлубием-мурзой. Участвовал в этом походе и московский князь Иван Калита. Встретив мужественное сопротивление смолян, поддержанных литовцами, их враги «стояша ратию оугороде не много дни, а города не взяша». После этого Орда должна была смириться с отказом Смоленска платить дань. Как пишет местный историк Д. И. Маковский, «с этого момента... Смоленск не знал татарского ига». С потерей ханом власти над Смоленщиной был положен окончательный предел распространению власти Золотой Орды на западных русских землях.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.