Другая наука - [8]
Известно убеждение раннего формализма в существовании «истинно-научного» (resp. формального) литературоведения. Единственным героем науки о литературе для этого этапа в развитии школы является прием, а предметом – литературность [Якобсон, 1987 (а), с. 256–257], т. е. нечто, что позволяет конкретизировать границы «ничейной зоны» литературоведения (предмет недовольства Александра Веселовского). Из заявления Якобсона следует, что прием – это переменная, придающая объекту свойство литературности в конкретный исторический период, т. е. позволяющая отделить его от иных объектов, данного свойства не имеющих. В общем виде литературность понималась как синоним автореферентности, замкнутости на себе. «В представлении формальной школы термин прием не означает приема оформления, т. е. особой формы деятельности, но слово или отдельный элемент словесного образования в его эстетической функции, т. е. с установкой на самозначимость» [Энгельгардт, 1995, с. 84]. В чем это свойство выражено и почему оно настолько важно?
В первую очередь – в понимании литературы как «затрудненной», в пределе вообще отказывающейся от естественного языка (как, например, в опытах Алексея Крученых). Русская литература, во второй половине XIX в. получившая мировое признание, ассоциировалась у историков и других гуманитариев с общественно важной деятельностью. Начиная с Александра Пыпина и вплоть до старшего современника формалистов Николая Пиксанова в историю попадала литература с установкой на содержание. Ранний формализм конца 1910-х годов был первой школой критики, не скрывавшей своей ангажированности авангардом, который попросту отказал в праве называться литературой всему, что бежало эксперимента. В том числе внешне эстетским, но лишенным радикализма символистским опытам. Шкловский и Якобсон начинали как участники художественного процесса и авторы футуристических литературных опытов[25]. Потерпев неудачу, оба сделали ставку на метауровень – перешли в разряд наблюдателей и экспертов, невольно оказавшись у истоков характерной для XX в. тенденции, сводящейся к непомерно высокому статусу гуманитарной критики, по сути – паразитарной области. Привычная для них «отклоняющаяся», «затрудненная» форма была объявлена первичной по отношению к «прямой», «легкой для восприятия». Таким образом, деавтоматизация парадоксально предшествует автоматизации, разрушение осуществляется раньше созидания.
Демонстративное небрежение историческим common sense объясняется тем, что в отличие от западноевропейского искусствоведения, гнездившегося в университетских аудиториях и стенах академий, русская формальная школа осуществляла «революцию снизу». Разумеется, это не отменяет ни «нарядных», по выражению Шкловского, статей Эйхенбаума 1910-х годов, ни многолетнего участия Тынянова в пушкинском семинаре Семена Венгерова, ни, тем более, строгой работы московских лингвистов. Под «революцией снизу» понимается в данном случае сюжет самопрезентации петербургского ОПОЯЗа (и примыкающего к нему в этом смысле Якобсона). На раннем этапе своего существования этот клуб выступил как орган, легитимирующий претензии авангарда на доминантное место в культуре[26]. Заостренность и даже скандальность базовых идей ОПОЯЗа (ср. доклад Шкловского в «Бродячей собаке») определила первоначальное развитие по линии усиления провокационности, тем более что сама теория брала за основу усиление впечатления. Внешне близкая авангардной практике авангардная теория была ее апостериорным осмыслением, а значит, и ревизией. Так, например, стилистическое единство (в практике авангарда тоже весьма условное, меняющееся от периода к периоду) формализм принес в жертву принципу variete, коллажа. Солидарность формализма с ранним авангардом осталась лишь в одинаковом стремлении вытеснить предшествующую традицию и переписать историю. Для формализма эта интенция была следствием включения романтической оптики, обеспечивающей эффект дальтонизма в восприятии доминирующего культурного кода и жажду немедленных изменений. В свою очередь отказ от истории, попытка авангарда вести отсчет с себя способствовала тому, что норма и отклонение менялись местами[27]. При этом акцентировалось, что в отношениях деавтоматизированного, автореферентного высказывания с высказыванием, имеющим прозрачную референцию и незатрудненную форму, важен сам факт сдвига, механизм смены, а не истинность того или иного члена оппозиции.
Таким образом, динамика как условие бытования теории была предусмотрена уже ранней, статичной ступенью ОПОЯЗа. На этапе приложения первичных идей остранения и деавтоматизации к синтагматике текста мотив «чистого движения» был выражен достаточно четко: «Мы изучаем не движение во времени, а движение как таковое – динамический процесс, который никак не дробится и никогда не прерывается, но именно поэтому реального времени в себе не имеет и измеряться временем не может» [Эйхенбаум, 1987, с. 143]. Статика и динамика диффузны в той же степени, что и понятия литературности и поэтичности. Диффузность объяснялась в первую очередь расширительным толкованием поэзии как способа моделирования высказывания с установкой на выражение в оппозиции прозе как сфере обыденного языка с установкой на утилитарную функцию. Именно поэтому объектом анализа постулируется прием, т. е. способ придания высказыванию статуса литературности. Ранний формализм еще не имеет в виду литературу в качестве родового обозначения своего объекта. Шкловский настаивает на реформе представлений об искусстве в целом, и для него понятие приема равно касается живописи, литературы, театра и т. д. Такая неопределенность объекта легко объясняется авангардной установкой на изменение самой структуры зрения, а не того, что попадает в его поле. Впрочем, стоит Шкловскому предельно обобщить проблему в статье «Искусство как прием», как уже в работе «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» он подменяет искусство литературой, не оговаривая причин подобного сужения. Затем, уже в статьях 1921 г. о Стерне, Сервантесе и Розанове, Шкловский рассматривает частные случаи деавтоматизации впечатления при восприятии нарратива. Литература для него оказывается скоплением принципиально «странных» текстов, причем не всегда понятно, насколько это свойство связано с ориентирами самого Шкловского, а насколько – с нормами и предрассудками того времени, когда эти тексты возникли. Здесь в этом насквозь нарочитом, негативно выстроенном корпусе «типичных» явлений есть предпосылка для возвращения в историю (пусть пока и не

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
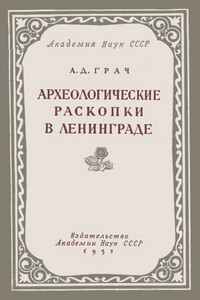
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.
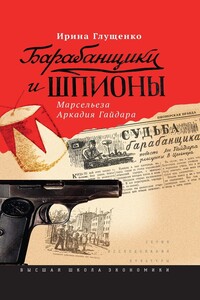
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.

Культурные ценности представляют собой особый объект правового регулирования в силу своей двойственной природы: с одной стороны – это уникальные и незаменимые произведения искусства, с другой – это привлекательный объект инвестирования. Двойственная природа культурных ценностей порождает ряд теоретических и практических вопросов, рассмотренных и проанализированных в настоящей монографии: вопрос правового регулирования и нормативного закрепления культурных ценностей в системе права; проблема соотношения публичных и частных интересов участников международного оборота культурных ценностей; проблемы формирования и заключения типовых контрактов в отношении культурных ценностей; вопрос выбора оптимального способа разрешения споров в сфере международного оборота культурных ценностей.Рекомендуется практикующим юристам, студентам юридических факультетов, бизнесменам, а также частным инвесторам, интересующимся особенностями инвестирования на арт-рынке.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.

Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.