Другая наука [заметки]
1
В этом смысле известный сборник статей Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу» (1924) – это и движение сквозь материал, и направление взгляда, что, как правило, ускользает от читателя, привыкшего к литературе как словесному искусству вне визуального модуса. Между тем для Эйхенбаума очевидна аллюзия на пушкинский «магический кристалл», сквозь который неясно различается еще не рожденный жанр. Именно у формалистов сборник и журнал осмысляются как литературно-критические формы. В частности, в «Гамбургском счете» у Шкловского и «Моем временнике» Бориса Эйхенбаума. См. первый раздел главы III настоящей работы.
2
Ср. заглавие программной для постструктуралистской критики работы Харольда Блума «А Map of Misreading» (1975), в переводе которого возможны оба термина. Уместно вспомнить также предисловие Набокова к его «Лекциям по зарубежной литературе», где он рассуждает о перечитывании как о, возможно, доминирующей практике понимания текста, лишенной физического усилия по усвоению новой информации и переводящей внимание в регистр осознания стиля и приема. Настоящее чтение начинается, коротко говоря, со второго раза.
3
Проблема хронической недостаточности строгой теории применительно к тексту была поставлена в ныне классической работе 1982 г. [Де Ман, 2004, с. 110–133]. О дихотомии hard-core theory и soft theory применительно к литературной критике см. [Iser, 2006, р. 5–7].
4
Эти аспекты отчасти затрагиваются в диссертации, посвященной сопоставительному анализу теорий и биографий Шкловского и Эйхенбаума как современников и коллег по школе [Eisen, 1994], однако так и остаются в тени чисто научных репутаций формалистов. Исключением являются работы Ильи Калинина, которые здесь хотелось бы выделить особо [Калинин, 2001, 2005, 2006, 2009; Kalinin, 2011].
5
Ср. замечание современника: «Все новое – неизбежно односторонне; это есть эпоха диктатуры, где часто диктатором становится парадокс» [Шагинян, 1923, с. 30]. Известен также и тезис Тынянова об «империализме конструктивного принципа» [Тынянов, 1977, с. 267], который рано или поздно провоцирует революцию. Рассматриваемая далее связь с романтизмом проявляется и в этой схеме «революционного» обновления, агенты которого сначала провозглашают свою уникальность, а на следующем этапе последовательно реабилитируют для себя историю. Работу этой аналитической машины в интерпретации связи формализма и структурализма см. [Szporer, 1980; Steiner, 1985]. Юлия Кристева распространяет эту схему на модерн в целом с его диалектикой иконоборства и почитания, что вызывает сомнения в валидности термина «революция» [Cavanagh, 1994].
6
Поэтику ОПОЯЗа называл «смонтированной» его оппонент и популяризатор, издатель «Книжного угла» [Ховин, 1922]; «Поиски оптимизма» (1931) – последняя книга «старого» Шкловского, предваряющая его творческую маргинализацию 1930-х, «В поисках жанра» – проблемная статья Эйхенбаума, вошедшая в книгу «Мой временник» (1929).
7
Ср. романтический проект последовательного охвата поэзии, искусства, науки и политики в компаративном изучении античности и современности [Шлегель, 1983, с. 191–198].
8
Продолжая это свое крылатое высказывание, сформулированное в ответе на анкету Издательства писателей в Ленинграде, Тынянов говорит, что «если вы вошли в жизнь вашего героя, вашего человека, вы можете иногда о многом догадаться сами» [Тынянов, 1930, с. 183]. Сложные ставки Тынянова в игре с историей подробно проанализированы в [Блюмбаум, 2002].
9
Ср. с категорией «редакторского всезнания» (editorial omniscience), занимающую в типологии повествовательных инстанций место наиболее размытого и наименее ограничивающего свободу перемещения авторской точки зрения [Friedman, 1975, р. 145]. Вспоминается здесь и трактовка «писателя» у Барта, неожиданно обнаруживающего здесь свои экзистенциалистские корни.
10
Шкловский обиделся на отзыв [Якобсон, 1959], где его били его же оружием – каламбуром. За ним скрывались серьезные обвинения в депрофессионализации. В ответ Шкловский опубликовал в «Вопросах литературы» (1960, № 4) заметку с «бумеранговым» заголовком – «Против», углубившую и без того явную пропасть. Переиздавая в 1964 г. «ZOO», Шкловский убирает слова «друг и брат» перед фамилией Якобсона и зачем-то посылает ему свою биографию Толстого в серии ЖЗЛ. Якобсон отсылает книгу обратно с надписью поперек дарственной, что и подводит черту в отношениях бывших создателей ОПОЯЗа [Ронен, 1997, с. 167]. См. также [Галушкин, 1999].
11
Термин «метафикция» обозначает «прозу о прозе», ставшую общим местом литературы XX в., которая тяготеет к аналитическому (чаще всего пародийному) самоописанию, в наиболее чистых случаях (как «Бледный огонь» В. Набокова или «ZOO, или Письма не о любви» В. Шкловского) «эксплицитно имитируя формализованную критическую интерпретацию» [Waugh, 1984, р. 15]. Как явление литературы метафикция не вполне синонимична метатекстуальности, поскольку несет в себе также элементы гипер– и архитекстуальности (об этих типах см. [Женетт, 1998, с. 337–340]), т. е. помимо автокомментариев и саморазоблачений затевает игру жанрами, тасует нарративные инстанции, обнажает их условность. Шкловский, писавший прозу для решения теоретических задач, демонстрирует радикальный образец метафикции в ее современной трактовке: «В изучении Стерна Шкловский, оперируя метафикцией как наиболее существенным приемом, реализовал на практике такую крайность формалистского мышления, что последнее оказалось за гранью самопародии» [Shepherd, 1992, р. 9]. Он, по сути, оказался тем идеальным метафикциональным автором, показавшим, как реальность оказывается функцией его субъективности [Waugh, 1984, р. 130].
12
Суммированы в диссертации Левченко (2003).
13
Ср.: «Путь человека к науке Нового времени пролегает через отречение от смысла. Понятие заменяется тут формулой, причина – правилом и вероятностью» [Адорно, Хоркхаймер, 1997, с. 18]. Наука фиксирует, останавливает, обмеряет, отторгая изменчивость объекта как чужеродную, если не мистическую. «Нет такого бытия в мире, которое было бы непроницаемым для науки, но то, что является проницаемым для науки, не есть бытие» [Там же, с. 42].
14
Ср.: «То, что для формалистов означало исчерпывающий анализ литературного произведения, для сторонников структурального изучения, даже на начальном этапе развития нового метода, означало лишь первое приближение к определенному уровню анализа и всегда было связано с интересом к содержанию» [Лотман, 1994, с. 22].
15
Интересный пример честной и последовательной легитимации этого времени дают работы Зары Минц по литературе Серебряного века. Здесь отчетливо прослеживается расширение контекста в сторону «сомнительных» авторов. Сначала общественно-политическая борьба эпохи Блока, Блок в союзе с Горьким и другими «официальными» авторами, Блок и классики XIX в. Затем Блок и нейтральные фигуры (Вячеслав Иванов). И, наконец, Блок и «враги» (например, Дмитрий Мережковский).
16
Этот обратный ход обращает и девиз тартуско-московской семиотической школы «от науки – к не-науке», вернее, к ее «допарадигмальной» фазе (в терминах Томаса Куна), которую характеризует отсутствие четких критериев для выделения объекта и его именование «с помощью спонтанно выбранных признаков» [Стайнер, 1995, с. 234].
17
Тем не менее, выработка новых моделей происходила на прежнем материале, а метатеоретические изыскания начались только в 1990-е годы, т. е. после смерти Юрия Лотмана, который символически объединял ученых из разных контекстов. Благодаря ему в тартуской научной ойкумене к формалистам относились сдержанно. Гораздо раньше указанные перемены начали происходить не на территории структуралистской русистики от Москвы до Тарту, но на «сопредельных» территориях, где местная интеллектуальная традиция обогащала импортированную дисциплину (Оге Ханзен-Леве и Ханс Гюнтер в Германии, Александар Флакер в Югославии, Ежи Фарыно в Польше; Питер Стайнер – чешский эмигрант в США). Подробнее о механизмах открытия и освоения формалистов см. [Тиханов, 2002].
18
Проницательный критик «формальной поэтики» еще на раннем этапе ее бытования выстроил убедительную историческую типологию направлений, ориентированных на (концептуальную) «новизну». Это dolce stil nuovo Гвидо Гуиницелли, французский классицизм XVII в. (а именно Буало с его l’art poetique, определяющим аристократический bon gout), французский романтизм (Виктор Гюго в предисловии к «Кромвелю», выдвигающий идею grotesque), итальянский футуризм («Маринетти с его арсеналами, локомотивами, электрическими лунами и толпами – красотой современной индустрии и динамики» [Эйхенгольц, 1922, с. 168]).
19
Настойчивые отмежевания самих авангардистов от Запада лишь заостряли внимание на их сложном отношении к любой генеалогии. Они охотно признавали только влияние Востока, понимая, что подобная экзотика будет востребована на Западе (подробнее см. [Герман, 2005, с. 184]). Конечной целью проекта была отмена самой оппозиции Запада и Востока. «Лозунгом русского авангарда стала сплошность Иного» [Деготь, 2000, с. 20].
20
Официальная инаугурация отделения истории русской литературы, чей костяк образовали деятели формального направления, состоялась 28 ноября 1920 г. В ноябре 1925 г. усилиями тех же людей был образован Кинокомитет, первоначально работавший при театральном отделе под руководством Александра Гвоздева. Подробный отчет о работе разрядов (отделов) института см. [ГИИИ, 1927]; исторический обзор и описание основных идейных инноваций см. [Shapovaloff, 1972]; опыт обобщения деятельности института на поприще киноведения представлен в работе [Гуревич, 1998].
21
Сюжет его путешествия, бегства и возвращения как материала литературы рассмотрен в главе III.
22
Интересно, что первый распад школы происходил на фоне более скромного успеха и сопровождался существенно меньшей уверенностью формалистов в своей востребованности, чем второй распад, оказавшийся, тем не менее, окончательным. Ведь именно накануне настоящего распада Шкловский пишет Тынянову в Берлин: «Мы получаем в Федерации одно место, как самостоятельная группа, и листаж, скажем, два сборника в год и начинаем их издавать. Мы на прибыли – это несомненно. В вузах кружки формалистов очень сильны и, к сожалению, стоят на нашей допотопной точке зрения. Мы восстановим наш коллективный разум» [Тынянов, 1977, с. 532]. Подробнее о крахе надежд на воссоединение см. [Галушкин, 1998].
23
По замечанию позднейшего исследователя, «формалистская критика должна была – часто очень быстро – менять свою позицию, как только облюбованная ею тенденция (поддерживаемая ею критически, практически и теоретически) становилась господствующей нормой, или обнаруживалась ее “непродуктивность”» [Ханзен-Леве, 2001, с. 497]. Так, еще за два года до выхода «Третьей фабрики» ее будущий создатель уверенно заявляет, что «скептицизм сделался дешевым приемом. Скептические фразы можно выхлопывать вафельницей» [Шкловский, 1990, с. 294].
24
Пристальный интерес к «домашней» и «кружковой» литературе XIX в., реализовавшийся в серии публикаций второй половины 1920-х годов (в особенности у Эйхенбаума), можно расценивать как поиск адекватной модели собственного культурного поведения.
25
Якобсон отправлял Максиму Горькому свои ранние прозаические опыты; Шкловский был автором поэтического сборника «Свинцовый жребий» (1914). Шкловский писал в «Третьей фабрике», что они с Якобсоном были «двумя поршнями в одном цилиндре» [Шкловский, 2002, с. 341]. Сюжет их дальнейших отношений был так или иначе связан с их причастностью авангарду. Они оба создавали образ enfant terrible [Эрлих, 1996, с. 67], подчеркивали тенденциозность первооткрывателей, которых потом сменяют «ученые филистеры» [Карцевский, 1923, с. 80], «профессора от Шкловизма» [Белый, 1928, с. 181]. В итоге сложившаяся научная карьера Якобсона и осознанный (пусть и не вполне удавшийся) дрейф Шкловского в область языка-объекта обозначили два крайних полюса, между которыми онтологизировалось формалистское мировоззрение.
26
По известной классификации авангард принадлежит к тому же типу культуры, что ренессанс и реализм, т. е. тяготеет к функциональности, стилистическому и языковому единству (пусть и остающемуся уделом деклараций), нормативности (и как следствие – неприятию теории как дискуссионной формы знания), жесткой иерархичности в распределении ценностей [Смирнов, 2001 (b)]. В то же время нельзя не учитывать тенденции к «снятию» принципа оппозиционности, которую демонстрирует авангард. Спор о классическом и романтическом не был важен для футуристической (и шире – авангардистской) концепции, «поскольку спор о “преодолении” символизма она сводила не к смене литературных систем, но к реорганизации системы литературы» [Смирнов, 2001 (а), с. 23].
27
Существует любопытная точка зрения, согласно которой авангард стремился говорить на langue, а не на parole, так как возрождал «черный язык» диких племен и вторично возвращал говорящего к состоянию первичной языковой аморфности [Faryno, 1988, р. 40]. В этом смысле о первичности девиантных форм можно говорить лишь с той долей условности, осознание которой доступно аналитическому, а не творящему сознанию. Формалисты же двигались от второго к первому, т. е. от нарушения к норме, постоянно при этом впадая в анахронизм и приписывая норме черты нарушения (ср. трактовку Льва Толстого у Шкловского или позднее – Ивана Тургенева у Якобсона). На новом витке развития теории начался ее самоотвод, что непосредственно отразилось в попытках своеобразной «деавангардизации» как современной литературы, так и ее критики.
28
С гегельянской точки зрения, в эволюционной теории формалистов вообще не было места для истории и при обилии динамики модель демонстрировала холостой ход [Tihanov, 2000, р. 47].
29
Ср. «под влиянием мы разумеем (независимо от психологического содержания) перенесение в личное (или национальное) искусство главного композиционного приема из искусства другого художника или иностранной литературы, притом перенесение независимо от тематики, сюжетности, словом – материала художественного произведения» [Тынянов, 1977, с. 387].
30
Шкловский идентифицирует Розанова с младшей линией. Однако парадокс состоит в том, что в отношении него, Шкловского, точнее, драматизированного последователя этой младшей линии, она с необходимостью превращается в старшую. Логика Шкловского проста: поскольку Розанов пытался максимально отдалить себя от литературы, именно ему суждено стать образцом ее следующего поколения, возвестить большую форму, не обязательно сюжетную. Ведь «всякое движение души, – говорит Розанов в „Опавших листьях“, – у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать, это инстинкт, не из такого ли инстинкта родилась литература (письменная)?» [Розанов В.В., 1990, с. 227]. О той же нераздельности говорят и в связи со Шкловским: «Его статьи – это нарезанная на куски (часто произвольно) стенограмма его монолога, произносимого им вслух или мысленно с утра до вечера всю жизнь по поводу литературы и жизни. Их надо было только озаглавливать» [Чудаков, 1990, 94]. И наоборот, «устная речь Шкловского больше всего была похожа на его письменную речь. Короткие фразы с одышкой между ними» [Рубинштейн, 1985, с. 153]. Это форма тотальной речи, больше не бывает.
31
Теория литературного быта начала формироваться в ходе сбора эмпирического материала для первой «биографической» книги о Толстом. Желание провести параллель между текстами Толстого и его эмоциональной жизнью заставило в поисках мотивировки усилить внимание к внешним контекстуальным факторам [Any, 1994, р. 118–125]. Принципиальная несовременность Толстого не могла бы оказаться в центре внимания Эйхенбаума, если бы он занимался только вопросами борьбы внутри поля литературы. Для него литература всегда была плацдармом, на котором в масштабном сокращении развертывалась драма общественных отношений, политики и даже философии. Другое дело, что с методологической стороны Эйхенбауму было не по пути с историками общественной мысли.
32
Характерна выдержка из «Записной книжки» Шкловского: «Сравнивал “L’art poetique” московского издания 1927 года с нашей “Поэтикой” 1919 года. До чего улучшилась бумага!» [Шкловский, 1928, с. 16].
33
Мы сознательно не рассматриваем такие немаркированные случаи, как учебник Б.В. Томашевского «Теория литературы. Поэтика» (1925), который, по признанию автора, в целом воспроизводит схему классической античной поэтики (см. [Флейшман, 1978]), или статью В.М. Жирмунского «Задачи поэтики» (1923) имеющую не концептуально-рефлексивные, а исключительно прикладные, просветительские задачи.
34
Или «редукционистская» [Ханзен-Леве, 2001, с. 167–217].
35
Подробности отношений, в частности, Эйхенбаума с Жирмунским см. в главе IX. В марте 1922 г. недавним друзьям пришлось окончательно объясниться, после чего Эйхенбаум упоминает в дневнике и Виноградова как представителя противоположного лагеря. 19 марта 1922 г. после нашумевшего диспута с участием формалистов в «Вольфиле» Эйхенбаум пишет: «Тынянов говорит, что готовится сборник “Анти-ОПОЯЗ”: Энгельгардт, Бернштейн, Виноградов и пр.» [Эйхенбаум, Дневник, 63].
36
Обвинения во вторичности были обращены в обе стороны. Как правило, западноевропейский формализм последовательно снабжается предикатами истинности в противоположность внешне эффектным, но мнимым «открытиям» ОПОЯЗа (программной для ГАХН является статья [Шор, 1927]). Демонстративно неакадемичный ОПОЯЗ в долгу не остается: «На наши работы не ссылаются, хотя таскают у нас термины и все» (Тынянов – Шкловскому. 22.03.1927 г. [Тынянов, 1977, с. 515]).
37
Подробный обзор см. [Тиханов, 2008]. Ср. в связи с этим: «Вооружившись тяжелой артиллерией гуссерлианской феноменологии, свободомыслящие московские лингвисты начали борьбу с генетическими пережитками даже с большим пылом, чем их петербургские коллеги» [Эрлих, 1996, с. 61].
38
Якобсон был одинаково деятельным в обеих столицах, послуживших ему тренировочным плацдармом для дальнейшего завоевания мировой славистики. Статус Якобсона, обусловленный масштабами его деятельности и разнообразием привлекаемых им интеллектуальных ресурсов, санкционировал глубокое бурение философского грунта, в котором укоренялись и развивались его научные концепции. Следует отметить, что для молодого Якобсона-будетлянина стимулом научных занятий стала философская дихотомия части и целого. «Именно в поэтике жизненные соотношения между целым и частями бросались в глаза и побуждали продумать и проверить учение Эдмунда Гуссерля (1859–1936), а также психологов-гештальтистов в применении к этому основоположному циклу вопросов» [Якобсон, Поморска, 1982, с. 10]. Затем, уже дистанцировавшись от реальной России, Якобсон выбирает в качестве фундирующей русскую идеологическую традицию. Претензия на целостный диахронический анализ языков и культур «логично» сменяет первичный имманентизм. Сформировавшийся таким образом «исследовательский подход является структурным, т. е. одновременно целостным, диалектичным и склонным подчеркивать динамичность явления, <.. > он историчен в смысле номогенеза и телеологии, а также тяготеет к реализму, отвергая редукционизм и позитивизм. Он также обращает неустанное внимание на универсальный, интерсубъективный, бессознательный и в особенности эстетический аспекты» ([Holenstein, 1987, с. 16]; курсив мой. – Я.Л.).
39
Декларируемое «раскрепощение поэтического слова от оков философских и религиозных тенденций» [Эйхенбаум, 1987, с. 379] достаточно двусмысленно, ведь речь идет не о любой философии, лишь о той, которая чревата хорошо знакомым «мракобесием». Аналогичный пример находим в дневниковой записи Эйхенбаума от 22 июня 1922 г. по поводу «старорежимного» доклада А.А. Смирнова в ГИИИ. «Очень важно отвести философский дилетантизм. <…> Мировоззрение здесь ни при чем. Оно нужно для ученого, но не для науки» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 73]. Эйхенбаум, конечно, может иметь в виду философию как показатель дилетантизма, но речь, скорее, идет об отсутствии актуальной философской культуры.
40
Формализм перекликается с феноменологией именно своей актуальной, в частности для Шкловского, перцептивной составляющей. Для Гуссерля возвращение к реальности означает рефлексию по поводу своего восприятия реальности. Сквозь поток силуэтов (Abschattungen) вещь прорисовывается с необходимой неадекватностью и не может быть дана в своей абсолютной ипостаси. Поток силуэтов фундируется в восприятии, которое, напротив, и есть абсолютное свидетельство бытия. Таково отправное положение «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1901).
41
В этом смысле объяснимым кажется эффект, замеченный рецензентом русского издания монографии Ханзен-Леве: «Количество отсылок в книге неисчислимо, и книга, en passant, становится воображаемой энциклопедией, в которой Аристотель, Платон и Сократ трутся плечами с Гуссерлем, Лукачем и Маркузе, а Потебню, Веселовского и Белого мы найдем наряду с Ларионовым, Бурлюком и Пикассо. Эта тенденция в книге несколько преувеличена, и временами особым подтекстом всего исследования кажется мысль, что формализм был синтезом всего человеческого знания» [Andrew, 2006, р. 518].
42
Следует оговориться, что имевшая хождение формула раннего формализма, выведенная из неосторожно брошенной Шкловским «суммы приемов», не выдерживает критики. Возможность фиксации того или иного приема в литературном тексте обусловлена, во-первых, гетерогенностью его структуры, а во-вторых, иерархичностью последней, т. е. неравным положением ее элементов. Таким образом, восприятие заключается в неустанном переключении кода в пространстве между нормой и нарушением. Только так и можно «пережить деланье вещи» [Шкловский, 1929, с. 13], отдаться чистому процессу наблюдения за образами, которые суть Dingen an undfur Sich: «от столетия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь» [Там же, с. 8]. Это не синхронная, но исторически обусловленная комбинаторика готовых элементов, что и дает возможность сопоставительной поэтики. Именно ей посвящены первые декларативные статьи Шкловского, не отменяющие динамику, а нанизывающие контексты перцептивного переключения и демонстрирующие историческую и географическую универсальность вводимых понятий.
43
Впрочем, Питер Стайнер считает, что теория восприятия Шкловского, основанная на процедуре дизъюнкции (прием/материал, остранение/ автоматизация, поэтический/практический язык), не только критикует Спенсера, но и наследует ему. Шкловский приписывает принцип экономии практическому языку и выводит принцип затрудненной формы в качестве оппозиционного члена [Steiner, 1984, р. 49].
44
Понятие сдвига означает перегруппировку (но не приращение) единиц плана выражения с целью расширения плана содержания в сознании реципиента [Ханзен-Леве, 2001, с. 83–85]. Формализм трактует сдвиг как эффект искусства в целом. Ср. известный плеоназм: «Кривая дорога, дорога, на которой нога чувствует камни, дорога, возвращающаяся назад, – дорога искусства» [Шкловский, 1929, с. 24].
45
В «Основных понятиях истории искусств» (1915) Вельфлин постулирует повторяющийся сдвиг от ренессанса к барокко. Если Тынянов сближается с Вельфлином в описании механизмов эволюции, т. е. чисто типологически, то Шкловский эксплицитно использует отсылающую к Вельфлину трактовку барокко на рубеже 1920-1930-х годов, когда говорит об истории своего поколения [Галушкин, 1993, с. 25]. Это не доказывает его знакомства с работами немецкого теоретика, но согласуется с проводимой Бахтиным параллелью между формализмом и «историей искусства без имен» [Медведев, 2000 (b), с. 221].
46
Пытаясь найти альтернативу метафизике, витализм, или философия жизни, также провозглашал возврат к реальности, однако, в отличие от феноменологии, апеллировала не к «строгой науке», а к творческому воображению. В России труды этого направления переводились достаточно активно: работа Георга Зиммеля «Проблемы философии истории», обозначившая его отказ от исторического позитивизма, была переведена еще в 1896 г.; на протяжении 1900-х годов появляются переводы Эриха фон Хартманна, Вильгельма Дильтея, Вильгельма Воррингера, с разных сторон разрабатывавших проблематику витализма. Оперативно переводятся и основные тексты Анри Бергсона, причем в 1913–1914 гг. выходит собрание сочинений в пяти томах. Вольная и весьма популярная форма изложения способствовала широкому распространению идей Бергсона, в том числе касающихся природы эстетических переживаний.
47
Опорный тезис другого трактата Бергсона – «Материя и память» (1896) – гласит: «Всякое движение, поскольку оно есть переход от покоя к покою, абсолютно неделимо» [Бергсон, 1999 (а), с. 603]. При этом, если оно реально, т. е. не зависит от случайных связей между вещами, его можно считать неким константным состоянием материи, а не изменением положения вещей относительно друг друга [Там же, с. 619]. Реальность – это не то, что ощущается, а то, что длится, вмещая в себя частные ощущения.
48
Ориентация на эстетику Бергсона в статье «Искусство как прием» отмечалась и синхронной критикой [Жирмунский, 1928 (b), с. 338]. См. также [Thompson, 1971, р. 66; Perisic, 1976, р. 28].
49
Миметическая сторона языка, впрочем, не игнорировалась, но как бы подавлялась в целях очищения теоретической модели, демонстрирующей возможность конструирования полноценной реальности из «самовитого» слова. Это усложняет интерпретацию формализма как редукционистской модели, поскольку обнаруживает омонимичность понятия редукции: с одной стороны, это приведение одного к другому, с другой – сворачивание, компрессия, конденсация того или иного теоретического принципа, чья заостренная форма позволяет очертить границы применимости метода. Поэтому миметический аспект был и оставался своего рода чувствительным нервом формализма, рассуждавшего о «самовитом слове» с привлечением примеров из повседневного перцептивного опыта (Шкловский, Якубинский) или из фольклорных, т. е. по определению прагматических текстов (Якобсон). Подражание, аналогия, ассимиляция – все эти понятия были в высшей степени актуальны для формалистов и образовывали неоднородное, но единое концептуальное поле, требующее отдельного изучения (о приложении концепции мимесиса к формальной школе см. [Pujante Sanchez, 1992, р. 78]).
50
Метафора ядра, лишенного окон, порождает ассоциации с монадой Готфрида Лейбница. Любопытно, что в своей критике Лейбница Бергсон подчеркивает вневременной характер описываемого им бытия, на что указывает отсутствие динамики, трансцендентной по отношению к монаде. «Действительность <…> предполагается целиком данной в вечности» [Бергсон, 1999 (с), с. 394]. Прорубание окон в монаде – это прокладывание пути из мнимой вечности в воспринимаемое время. Задача искусства состоит не только в деавтоматизации, но и в создании исторического измерения. Как показывает формалистская теория сюжета, это связанные вещи. Наконец, разрядка, которой Шкловский выделил местоимение «наше», заслуживает внимание не только тем, что актуализирует концепцию «возможных миров» Лейбница, но и тем, что подчеркивает плюрализм автора. Этой особенностью формалисты особенно дорожили: «Русская интеллигенция, а вместе с ней и наука, была отравлена идеей монизма. <…> Мы плюралисты. Жизнь многообразна – к одному фактору ее не свести» [Эйхенбаум, 1921 (а), с. 9].
51
Так, среди нескольких отмеченных Кертисом совпадений [1976, с. 117–119] интересен риторический и концептуальный параллелизм трактовок динамичности формы в «Проблеме стихотворного языка» (1924) и «Творческой эволюции». Тынянов пишет: «Мы недавно еще изжили знаменитую аналогию: форма – содержание = стакан – вино. Но все пространственные аналогии, применяемые к понятию формы, важны тем, что только притворяются аналогиями: на самом деле в понятие формы неизменно подсовывается при этом статический признак, тесно связанный с пространственностью (вместо того, чтобы и пространственные формы осознать как динамические sui generis). <…> Ощущение формы при этом всегда есть ощущение протекания <…> Протекание, динамика может быть взято само по себе, как чистое движение» [Тынянов, 1993, с. 26]. А вот пассаж из Бергсона: «Если налить в один и тот же стакан сначала воды, а потом вина, то обе жидкости, разумеется, примут в нем одну и ту же форму; здесь будет тождественное приспособление содержимого к содержащему. <… > Но когда говорится о приспособлении организма к условиям, в которых ему приходится жить, то где здесь предсуществующая форма, ожидающая свою материю? Условия – это не форма, в которую вливается жизнь, принимающая соответствующий вид; когда мы рассуждаем так, нас вводит в заблуждение метафора. Никакой формы нет, самой жизни предстоит создать себе форму, приспособленную к данным условиям. <…> Приспособляться означает здесь не повторять, а соответствовать, что совсем не одно и то же» [Бергсон, 1999 (с), с. 73]. Соответствие формы и материи у Бергсона процессуально, является одним из проявлений чистой длительности (pure duree). При этом именно пространственная доминанта в восприятии материи (Лейбниц, Спиноза, Кант) вызывает у Бергсона наиболее резкую критику [Там же, с. 386–404]. Принцип динамического становления, являющийся ключевым для всей книги Бергсона, начинает у Тынянова играть столь же необходимую, теоретически нагруженную роль.
52
Скорее всего, имеет место суммарный перифраз хрестоматийных выдержек из Шкловского. Ср. в анализе «Тристрама Шенди» реплику о том, что «искусство безжалостно или внежалостно, кроме тех случаев, когда чувство сострадания взято как материал для построения» [Шкловский, 1929, с. 192], а во вступлении к «Розанову» утверждение о том, что «шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения <…> – равны между собой» [Там же, с. 226].
53
В конце 1970-х годов Якобсон вспоминал о питательной среде формалистского мировоззрения: «Нашей непосредственной школой в помыслах о времени была ширившаяся дискуссия вокруг новорожденной теории относительности с ее отказом от абсолютизации времени и с ее настойчивой увязкой проблем времени и пространства» [Якобсон, Поморска, 1982, с. 44].
54
Реакция на нее была вполне единодушной. Эйхенбаум в письме Тынянову писал: «Нас язвительно называют “веселыми историками литературы”. Что ж? Это не так плохо. Быть веселым – это одно теперь уже большое достоинство. А весело работать – это просто заслуга. Мрачных работников у нас было довольно – не пора ли попробовать иначе?» [Эйхенбаум, 1921 (а), с. 40]. В свою очередь, Шкловский, завершая статью «Пушкин и Стерн», вряд ли случайно обмолвился, что «почтить память можно не только каждением благовонной травы, но и веселым делом разрушения» [Шкловский, 1923 (с), с. 220].
55
Ведущие левые идеологи призывали к стиранию границы между искусством и производством, вкладывая в последнее смысл современной жизни. «Увеличивая дистанцию между текстом и жизнью за счет сгущения эстетического, они приближали их друг к другу на другом уровне» [Ensen, 1987, р. 113]. Безальтернативная эскалация производства сродни ритуальному экстазу, в котором должны слиться искусство и вера. По сути, теургические претензии символистов переводятся в план идеологии ЛЕФа почти непосредственно: в ответ на поэму «Двенадцать» один из будущих ЛЕФовцев констатирует, что тринадцатый апостол нашел воплощение в фигуре В. Маяковского; начинается формирование Пантеона [Чужак, 1921, с. 77–81].
56
«Пустота всасывает, – говорит он в часто цитируемом пассаже из „Третьей фабрики“, – дайте скорость!» [Шкловский, 2002, с. 313]. В книгах, написанных после эмиграции, Шкловский неудовлетворен своим обращением к штампам – к тем самым, в которые отложилась прежняя традиция, «расшевелившая» Пушкина и «идущая от Достоевского и Розанова к Андрею Белому» [Шкловский, 1923 (с), с. 203].
57
Интенция быть в центре современной литературы (или, если таковой не обнаружится, создать ее) наиболее кардинальным образом отличала представителей формальной школы от академического литературоведения. И тем не менее, как критики или «как прогнозисты, на современном материале формалисты проиграли дважды: а) авангардные формы, на которые они ориентировались, которые считали наиболее перспективными, оказались не нужны новому обществу; б) реальность изменилась настолько, что их основные теоретические положения оказались неприложимыми к современной литературе» [Чудакова, 2001, с. 426]. Осознание этого факта и привело к распаду школы вопреки желанию ее участников.
58
Так, сглаживая противостояние Шкловского и Потебни, рецензент «Поэтики» 1919 г. говорит, что со стороны ОПОЯЗа звучит вполне справедливая критика недифференцированного понимания обыденной и поэтической речи. Нарочная заостренность Шкловского также проблематизировала поэтическое происхождение обыденного языка и разведение языков в результате забвения внутренней формы [Жирмунский, 1928 (b), с. 348–349]. Следует заметить, что и Ф. де Соссюр, рассуждая в «Анаграммах» о мотивированности языкового знака допускал аналогичную генерализацию. Ведь внутренняя форма слова и есть то, что связывает звуковой облик со значением.
59
Свидетельство о своей смерти автор получает только в следующий период эскалации скептицизма на рубеже 1960-1970-х годов [Фуко, 1996].
60
Неразличение «видения как будто» и «видения на самом деле» (термины заимствованы из [Kearney, 1997]; ср. также «Hocus Pocus Linguistics» и «God’s Truth Linguistics» в одноименной дисциплине) в полной мере свойственно ментальному и дискурсивному пространству модернизма. Оно лишь не сопровождается кризисом «большого нарратива», который письменная культура осознала к середине XX в. Если увлеченные вседозволенностью модернисты (в том числе формалисты) были активными субъектами неразличения, то люди эпохи постмодерна чувствуют себя беспомощными объектами, если не жертвами неразличения: «Современная революция – это революция неопределенности. Мы весьма далеки от того, чтобы принять ее» [Бодрийяр, 2000, с. 64].
61
Проницательную критику этого общего места гегелевской эстетики см. [Шеффер, 2010, с. 36–46].
62
«Среди формалистов Тынянов и его ученики, особенно Н.Л. Степанов, оставили нам наиболее стимулирующие работы по письмам. Несмотря на то что Тынянов никогда не посвящал письмам отдельного исследования, они являют собой основную иллюстрацию к теории литературного правонаследования, где внелитературные писания (персональная переписка, словесные игры в салонах) могут достичь литературного статуса в то же самое время, когда признанные жанры лишаются своей прежней литературной репутации (например, оды или придворные ритуалы» [Todd, 1976, р. 14]. Исследователь далее напрямую ссылается на пионерскую работу Степанова о дружеском письме в «ювенильном» формалистском сборнике «Русская проза» 1926 г.
63
Игра с известными метафорами Поля де Мана не вполне произвольна. Ведь речь действительно идет о слепоте на уровне очевидного и способности к внутреннему зрению там, где нет иного советчика, кроме интуиции. Тынянов при всей его «научности» относится к той категории критиков, что в решающий момент интерпретации (момент диагноза) исходят из интуиции.
64
Для обозначения таких авангардных явлений Гэри Сол Морсон предлагает удачный термин «threshold art» – «пороговое искусство» [Morson, 1981, р. 39].
65
Показательно, с каким подчеркнуто личным рвением опоязовский триумвират в лице Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума на протяжении 1920-х годов обсуждал феномен литературного кружковства и динамику формирования и дезинтеграции объединений в литературе XIX в. (констатацию очевидных параллелей см. [Курганов, 1998]).
66
Имеется в виду бартовский «писатель», упразднивший цель письма, ремесленный смысл «письма для чего-либо». При этом формалистам (во всяком случае, в течение 1920-х годов) удавалось совмещать научную честность с литературным ремесленничеством, культивируя парадоксальность своего положения и оправдывая его жанровыми требованиями биографии. Называя Шкловского «особой фигурой писателя», Эйхенбаум, несомненно, примерял этот титул на себя [Чудакова, 2001 (а)].
67
Ср. «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [Шкловский, 2002, с. 260], а также: «Говорил мне когда-то мой друг – человек, которого каждый нерв нашей эпохой сделан – говорил, что мировая война наша есть порождение символизма: люди перестали ощущать мир, людей, вещи. Если бы ощущали – не могли бы воевать» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 532].
68
О розановском генезисе Шкловского см. [Пятигорский, 1996; Липовецкий, 2000].
69
Что, впрочем, по характеру формулировки подозрительно напоминает описание революционной ситуации по В.И. Ленину: «Верхи не могут, а низы не хотят».
70
У Тынянова «слово „диалектика“ сразу же бросается в глаза. Но у Гегеля, как мы помним, диалектика не ограничивается подобным, как он говорил, отрицательно-разумным движением (параллель у Тынянова – само столкновение новой и отжившей литературных форм); существует диалектика как „процесс, в котором всеобщее отвергает форму конечного“. В этом случае мы должны исходить из понятия целостности, тотальности; и у Тынянова этим аналогом целостности выступает сама Литература как надындивидуальная духовная общность» [Парамонов, 1995, с. 47–48]. Со второй половины 1920-х годов латентная чувствительность формалистов к диалектике выходит на поверхность и обнаруживает себя в попытках социологического достраивания формального метода. Мотив диалектического снятия оппозиции субъекта и объекта обыгрывается, например, в письме Шкловского к Эйхенбауму от 16 января 1928 г.: «Я счастлив, что тебя откупорило с Толстым, вернее, Толстой откупорил книгу о литературном быте» [Панченко, 1984, с. 189]. Знаменателен глагол, выбранный щедрым на тропы Шкловским: теоретическое осмысление темы быта, в свою очередь, «откупоривает», или эксплицирует ту самую «побежденную линию», которая «сбивается с гребня, уходит вниз гулять под паром», как писал Шкловский в 1921 г. о явлении «канонизации младших жанров» [Шкловский, 1929, с. 228]. Теория развивается в соответствии с законами литературной диалектики, постоянно ища и находя в литературе себя и свою противоположность. В качестве постскриптума к цитированному письму Шкловский роняет фразу: «Нужно начать читать Гегеля» [Панченко, 1984, с. 190], – как бы разрешая ретардацию указанием на непосредственный источник своих мыслей и, как представляется, иронически противопоставляя себя Белинскому. Как известно, последний Гегеля не читал и не особо собирался в отличие от Шкловского, подоспевшего как раз к выходу первого тома академического четырнадцатитомника Гегеля на русском языке (М., 1929). Состоялось ли внимательное чтение – это вопрос отдельного исследования.
71
Это сочетание впервые использует Эйхенбаум в «юбилейной» статье в «Книжном углу» (1921) в адрес последователей формализма. Немногим позже недовольный современностью Г. Винокур постулирует «эклектику» и «эпигонов» как характеристику эпохи в целом, не заинтересованной в критике так, как Пушкин был заинтересован в Вяземском [Винокур, 1924, с. 294].
72
Одновременно в статье 1924 г. «Литературное сегодня» Тынянов завершает обзор современной литературы характеристикой «ZOO» Шкловского: «Книга интересна тем, что на одном эмоциональном стержне сразу даны – и роман, и фельетон, и научное исследование» [Тынянов, 1977, с. 166].
73
Такое понимание быта характеризует, в частности, работу учеников Эйхенбаума Н. Аронсона, С. Рейсера «Литературные кружки и салоны» (Л., 1930).
74
Об оппозиции реляционизма и финализма у Тынянова см. [Gunther, 1987, р. 61–62]. Про одновременное увлечение психологической подоплекой текста и различными следствиями его восприятия, т. е. о прогнозировании рецепции [Rosengrant, 1980, р. 388].
75
Далее красноречивое добавление: «Ты без пены на губах – ты француз. А мы немножко пену подделываем, она у нас в спросе» [Панченко, 1984, с. 189].
76
«Точка зрелости и ужаса» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 533], когда человек осознает себя вошедшим в полосу исторической ответственности, есть момент «суда»» [Там же, с. 539]. Эта апокалиптическая риторика абсолютно противоположна деловитому смакованию исторического катаклизма у Шкловского. То, что для Эйхенбаума оказывается драматичным открытием («история – это мы все, мы сами»), Шкловский воспринимает как предпосылку своих действий. Он органично чувствует себя у руля истории и лишь сетует, что не все выходит так, как хотелось бы. Забегая перед следующей главой работы, можно привести характерный пример размышлений Шкловского о своей роли в революции: «Конечно, мне не жаль, что я целовал и ел, и видал солнце; жаль, что подходил и хотел что-то направить, а все шло по рельсам» [Шкловский, 2002, с. 142].
77
Зафиксированный Жераром Женеттом тавтологизм определения фигуры в то же время отсылает и к его прагматичности. В синхронии всякое отклонение от прямого словоупотребления фигуративно, тогда как в диахронии всякая норма словоупотребления есть следствие «нормализации» какой-либо фигуры, ее закрепления в словаре. «…Сущность фигуры заключается в том, что у нее есть фигура, т. е. форма. Простое, обычное выражение не имеет формы в отличие от фигуры: и вот мы вновь пришли к определению фигуры как зазора между знаком и смыслом, как пространства внутри языка» [Женетт, 1998, с. 208].
78
Отнесение Шкловского к еретикам науки и чужакам в литературе [Morson, 1978] давно стало общим местом, иллюстрирующим интеллектуальную коммерциализацию маргинальности. Она становится востребованной и активно выталкивается в центр (ср. опыт коммерческой профанации маргинального письма Шкловского [Бойм, 2002, глава 3]). Притягательность маргинального дискурса легко объяснимо в контексте постсимволистского мировоззрения. По слову современника, «разговаривая, Шкловский не сомневался, что его собеседнику ничего не стоит перемахнуть вслед за ним те пропасти, которых он даже не замечал. Он существовал в атмосфере открытий. Тех, кто не умел их делать, он учил их делать. А тех, кто не умел, презирал» [Каверин, 1980, с. 353].
«Обучение» инсайту – характерный парадокс, свидетельствующий о невозможности найти адекватный метаязык для описания литературы. Поэтому Шкловский и выбирает «путь третий – работать в газетах, в журналах, ежедневно, не беречь себя, а беречь себя, изменяться, скрещиваться с материалом» [Шкловский, 2002, с. 369].
79
В 1967 г. Ролан Барт, рассуждая о чисто институциональном делении науки и литературы, поставил целью структурализма «подрыв самого языка науки», умение «написать себя» [Барт, 1994, с. 379, 383], которое бы заставило ученого отказаться от иллюзии объективности как высшего проявления истины. «Перед структуралистским дискурсом встает задача сделаться полностью единосущным своему объекту; решить эту задачу можно лишь на двух одинаково радикальных путях – либо посредством исчерпывающей формализации, либо посредством тотального письма. При этом втором решении (именно оно здесь и отстаивается) наука станет литературой в той же мере, в какой литература уже есть и всегда была наукой (кстати говоря, ее традиционные жанры – стихотворение, рассказ, критическая статья, очерк – все более разрушаются)». Через 45 лет маргинальная стратегия Шкловского переместилась в самый центр гуманитарной саморефлексии.
80
Мотивировкой уровневого и жанрового смешения служит так называемая «действительность». В предисловии к книге «Ход коня» (1923) Шкловский пишет: «В России все так противоречиво, что мы все стали остроумными не по своей воле. <.. > Наша изломанная дорога – дорога смелых, но что нам делать, когда у нас по два глаза и видим мы больше честных пешек и по должности одноверных королей» [Шкловский, 1990, с. 75].
81
Авторское «Я» ранних критических текстов Шкловского, более ориентированных на объект, чем последующие, соответствует категории «абстрактного автора», аналогичной категории «образа автора» у Виктора Виноградова (очерк понятия см. [Шмид, 2003, с. 41–57]).
82
Уже вскоре после выхода книги «Третья фабрика» была охарактеризована как завершение берлинского цикла: «В “Сентиментальном путешествии” перед нами проходит жизнь Шкловского в войне и революции, в “Письмах не о любви” – скитания за границей и запрещенная любовь, прорывающаяся, однако, в иносказательном, метафорическом плане и наконец в “Третьей фабрике” – последняя глава построенного на подробностях, на самозначимых мелочах романа с автобиографическим экскурсом в детство» [Гриц, 1927, с. 8].
83
«Это такие книги, в которых слегка беллетризированные надежды и разочарования автора (так как Шкловский – писатель, занятый собой) перемежаются с реальными историями литературных отношений и разъясняющими комментариями по поводу чужих произведений» [Thompson, 1971, р. 80–81].
84
А заодно продуманным вызовом традиции, закрепляющей мемуарный жанр за возрастным автором. На момент выхода СП Шкловскому 30 лет.
85
Сидней Монас со ссылкой на Ричарда Шелдона, исследователя Шкловского и переводчика СП и Ц, называет вторую часть мемуаров лекцией, адресованной «Серапионовым Братьям» для демонстрации стилистик Л. Стерна и В. Розанова [Monas, 1970, XV–XVI]. Теоретический субстрат, резонирующий с филологическими взглядами автора, отмечается и в тех работах, где Шкловский безоговорочно проходит по писательскому ведомству [Lalee-Waller, 1984].
86
Уже в берлинской редакции второй части в описании условий книгоиздания в России 1921 г. походя сказано: «Но, к сожалению, Григорий Иванович Семенов, не умеющий работать, помешал работать Виктору Шкловскому, знающему свое ремесло» [Шкловский, 2002, с. 238].
87
«Книга же создана на принципе мерцающей иллюзии, т. е. дана установка то на боль, то на прием» [Шкловский, 2002, с. 10].
88
Позднее Шкловский продемонстрировал симультанную осознанность Ich-Erzahlung в своих гибридных научно-художественных текстах: «Я не считаю себя виновным в том, что я всегда пишу от своего лица, тем более, что достаточно просмотреть все то, что я только что написал, чтобы убедиться, что говорю я от своего имени, но не про себя» [Шкловский, 1928, с. 106].
89
В отличие от наблюдателя (I-Witness) «я-протагонист» перемещается с периферии событий в самый центр, вследствие чего «одни каналы информации предельно актуализируются, а другие не менее выгодные точки зрения утрачиваются совсем» [Friedman, 1975, р. 152].
90
В той же рецензии Михайлова говорится и о смеющемся стилизованном «Я» повествователя.
91
Об этом исчерпывающе пишет Лидия Гинзбург в 1927 г.: «Шкловский утверждает, что каждый порядочный литературовед должен, в случае надобности, уметь написать роман. Пускай плохой, но технически грамотный. Иначе он белоручка. В каждом формалисте сидит неудавшийся писатель, говорил мне кто-то. И это вовсе не историческое недоразумение – это история высокой болезни» [Гинзбург, 2002, с. 35].
92
«…я не хочу быть критиком событий, я хочу дать только немного материала для критики. Я рассказываю о событии и приготовляю из себя для потомства препарат» [Шкловский, 2002, с. 39].
93
Нейтральные российские рецензенты предпочли воспринять текст как источник, сетуя на отсутствие точных дат и указателя лиц и местностей. См. [Губер, 1921, с. 9; Вишняков. 1922, с. 211; Курс, 1924, с. 5].
94
Бессилие, гнетущее как отдельного человека, так и целые массы людей – один из ключевых мотивов текста: «Их <ударные батальоны Корнилова. – Я.Л.> гнала из полков тоска видеть уже начинающееся гниение армии» [Шкловский, 2002, с. 45]; «Тоска меня вела на окраины, как луна лунатика на крышу» [Там же, с. 85]. Несмотря на критику Шкловского в адрес Временного правительства, один из рецензентов возмущался именно «везде проступающей беспомощностью “от Керенского”. Свершить не дано ничего» [Гуль, 1923 (b), с. 27].
95
Имеется в виду хрестоматийный обрыв (в риторике – апосиопезис) в финале оригинального текста Стерна: «Так что, когда я повернулся и схватил fille de chambre за —» [Стерн, 1968, с. 652].
96
«Немецкий Берлин, увиденный глазами русских, всегда остается чужим, враждебным, непостижимым, в него невозможно проникнуть. <…> Симптоматично сопоставление берлинских домов с чемоданами у Шкловского: внутренняя жизнь чужого города, или, говоря словами Анциферова, его душа скрыта от стороннего наблюдателя, как содержимое ящика, ключ от которого утерян» [Dolinin, 2000, р. 231–232]. Чувство собственной ненужности у протагониста Ц усиливается еще и тем, что Берлин именно в 1923 г. испытывать тяжелейший кризис самосознания. Русские эмигранты не слишком отстают от немцев, испуганных скоротечным дурманом берлинской жизни, а символом последней становится скандальный сборник рисунков Ессе Homo, опубликованный Георгом Гроссом в том же 1923 г. (о его параллелях с русской эмигрантской литературой см. [Sheldon, 1970, р. 266]).
97
Мотив «пробника» – жеребца, негодного для воспроизводства, но готовящего кобылу к случке, – возникает в 1924 г., когда Шкловский активно квитается со своим эмигрантским прошлым и «торжественно» слагает с себя «чин и звание русского интеллигента» [Шкловский, 1990, с. 187].
98
«А мне хотелось бы писать, как будто никогда не было литературы. Например, написать “Чуден Днепр при тихой погоде”» [Шкловский, 1990, с. 283]. Питер Стайнер считает, что здесь обыгрываются слова Белинского, который через два года после публикации «Вечеров на хуторе близ Диканьки» кричал, что в России нет литературы [Steiner, 1985, р. 32].
99
Эта же идея дословно воспроизводится в одной из берлинских статей [Шкловский, 1923 (с), с. 216] а также в книге [Шкловский, 1923 (b), с. 30].
100
О сходствах и различиях сказано достаточно [Todorov, 1973; Streidter, 1989; Steiner, 1996], однако главным, наиболее общим местом схождения остается к истолкованию смысла текста через его структуру, другими словами, не через сущности, а через отношения.
101
Ср. «Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом середи дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и – чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна» [Гоголь, 1940, с. 276]. Перед тем, кстати, колдун вместе со всеми наблюдает «диво» перемещения земель – мираж далеких стран над лиманом. Те же призраки, надо полагать, к тому моменту измучили и Шкловского.
102
Автор этой известной формулировки полагает, что формализм в лице Шкловского угодил в поучительную ловушку. Провозглашая главенствующим принципом обнажение приема, он не озаботился резервами, которые бы исправно поставляли материал для обнажения. С этим связано переворачивание позитивного смысла обновления: последнее истолковывается как порождение на деле трагического сознания, которое мечется в поисках удовлетворения [Jameson, 1974, р. 89–90].
103
Ср. с пассажем, относящимся к наиболее «темному периоду» постформалистской истории: «Я написал много разных статей о разных вещах. Не будем времени верить. <…> “Надежда, – сказал Батюшков, – память о будущем”. Пятнадцать лет одной моей книге: это роман “Письма не о любви”. <…> Вообще, книге той не так еще много лет. Если она была бы человеком, она бы молодела» [Шкловский, 1939, с. 3–4].
104
«Эта вещь печатается с подлинника, написана Лазарем Зервандовым по моей просьбе. Я только исправил падежи и исправил знаки препинания, чем, может быть, сблизил стиль Зервандова со своим» [Шкловский, 1922, с. 26]. Кстати, вариант этого же вступления в тексте СП не содержит упоминания о том, что рукопись написана «по просьбе», а вмешательство в рукопись кажется более существенным: «В результате получилось похоже на меня» [Шкловский, 1990, с. 260].
105
Ср. воспоминания еще одного обитателя Дома искусств: «Незабываемые впечатления производили его <Волынского. – Я.Л.> стычки с Виктором Шкловским – поединок меткого топора и ловкой, увертливой шпаги» [Рождественский, 1974, с. 266].
106
В серию «странных сближений» можно занести известную пародию на Шкловского: «Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о балете. Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений» [Зощенко, 1991, с. 146]. На протяжении без малого 20 лет Волынский занимался морфологией балетного танца, изучением его ритуальной (знаковой) природы.
107
Между прочим, сопоставление себя с образом Волынского было важно и для самого Розанова: «Очень уж вы последовательны, говорил Розанов Волынскому, очень уж обтачиваете мысль. Вдобавок, у вас римский нос, а мы, русские, любим нос “картофелькой”: вот римский-то нос и мешает нашей близости» [Голлербах, 1976, с. 83].
108
В литературном аспекте эта ныне разработанная проблема была поставлена в [Окутюрье, 1981, с. 103–111].
109
Шкловский приводит такую мотивировку в одном из более поздних текстов и подчеркивает, что быстрота написания означает лишь то, что книга, «очевидно, была готова и только в десять дней просыпалась» [Шкловский, 1928, с. 108].
110
Панченко О.М. раскрывает соответствующие закономерности в более поздних работах Шкловского: «Недискретность литературы и литературной работы автора, осознание себя «буквой в книге времени» [Шкловский, 1983, с. 318] провоцирует разомкнутость его произведений о литературе, тогда как дискретность частного человеческого бытия ведет к большей выделенности, локализованости начал и концов в структуре книг-жизнеописаний» [Панченко, 1997, с. 295].
111
Виктор Чернов – один из организаторов партии эсеров. Спасаясь от систематических преследований, эмигрировал в Германию в 1899 г. и вернулся в Россию лишь после Февральской революции. Занимал пост министра земледелия во Временном правительстве. У Шкловского Чернов появляется уже в качестве бывшего министра (по времени – уже после корниловского мятежа), отсюда и устойчивая «немужествен-ность» создаваемого образа.
112
Видимо, одновременное появление «Теории литературы» Томашевского и «Теории прозы» Шкловского обусловило распространенное заблуждение, согласно которому 1925 год – время, когда «школа была на вершине своего развития» [Shapovaloff, 1972, р. 115], а учебник Томашевского являет собой «наиболее целостное изложение формальной методологии» [Эрлих, 1996, с. 181]. Впрочем, второе из упомянутых изданий можно понимать и как симптом «смерти формального метода» [Томашевский, 1923], уступающего свое место на теоретическом Олимпе традиционной аристотелевской поэтике и уходящего в сферу рассмотрения частных проблем. Подробнее об этом см. [Флейшман, 1978].
113
Эта цитата из выступления Георгия Горбачева в заочном диспуте на страницах «Печати и революции» (1924 г., № 5) вполне может стать девизом этого краткого переходного периода.
114
В момент появления такого издания критика, как правило, не может дать позитивный отклик, так как принципиально не оценивает материал исторически: «Все то немногое ценное, что имеется в книге В. Шкловского, в значительной степени уже известно, главным образом, из трудов А.Н. Веселовского. <…> Так в новизне Шкловского старина слышится, правда, “остраненная”. Ново в книге – предисловие» [Медведев, 1996, с. 88–89].
115
И хотя известные «либеральные» положения о духовной несамостоятельности России [Гройс, 1993, с. 245–259] легко превращаются в объект идеологической деконструкции, опровергнуть их весьма затруднительно хотя бы в силу того, что фундаментальное для русской ментальности православие отвергает идею чистилища как посредничающей инстанции и не приемлет разделение функций между Богом-отцом и Богом-сыном. Непосредственность и единоначалие – корреляты светской власти, внешне отъединенной от церкви, но зависимой от нее идеологически и символически.
116
Подчеркивается, что именно Крученых с его квазиспонтанным провокационным речеподражанием был первичным ориентиром для петербургских формалистов (ср. тотальное значение ощутимости у Шкловского), тогда как заумь Хлебникова, т. е. язык интеллектуального сдвига, больше интересовал ориентированных на лингвистику москвичей, например Якобсона [Hopensztand, 1989, р. 117–118].
117
Кстати, в 1925 г. вчерашние антиподы в составе «Серапионов» (Иванов и Шкловский были полюсами этой литературной группы) напишут в соавторстве пародиный авантюрный роман «Иприт», где практически нет рефлексий о теории литературы, но есть практика выстраивания «занимательности», сознательно доведенная двумя виртуозами стилизации до абсурда.
118
О «воскрешении» Стерна при неожиданном посредстве Шкловского говорилось и в первых зарубежных работах, апеллирующих к малознакомому контексту русского формализма [Harper, 1954].
119
В литературе вопроса практически одновременно были сформулированы две точки зрения. Первая (Борис Бухштаб): в «Страннике» имеют место два равноправных плана – мысленное передвижение по карте и реальное путешествие по пунктам, на ней обозначенным [Младофор-малисты, 2007, с. 3–103]. Вторая: первичная роль отведена тексту, призванному рассеять иллюзию подлинной жизни [Там же, с. 104–127]. Исследовательница, не испытавшая прямого формалистского влияния и, тем не менее, тогда же работавшая с прозой Вельтмана, отмечала, что «Странник» «создает на русской почве своеобразный бессюжетный жанр, в котором сюжет заменен калейдоскопом случайных тем, в нем разрушается традиция литературных путешествий» [Ефимова, 1927, с. 60]. В новейших работах неизменной стартовой точкой анализа остается констатация того, что «Странник» «разрушает ожидания читателя, приученного к чистому разделению действительного и вымышленного путешествия. С одной стороны, текст нерегулярен, беспорядочен, абстрактен, предлагает прочитывать себя как пародию. С другой стороны, он неожиданно демонстрирует контуры подлинного, пусть и прерывистого, травелога» [Schoenle, 2000, р. 160].
120
СП буквально кишит упоминаниями автотранспорта (броневиков, грузовых и легковых машин) в оппозиции обычным пешеходам и даже железной дороге, которая движется по-фронтовому медленно и страдает от малой маневренности и уязвимости. Хрестоматийным считается отзыв Тынянова: «Шкловский прежде всего монтер, механик… и шофер. Он верит в конструкцию. Он думает, что знает, как сделан автомобиль» [Гинзбург, 2002, с. 369]. Машина, как и литература, имеет у Шкловского отчетливые эротические коннотации, что вполне встраивается в богатую на сегодняшний день традицию психоаналитической интерпретации автомобилизма как культурной практики [Sheller, 2004].
121
Ср. характерную провокацию читателя, якобы жаждущего «признаний» автора и нарушения границы между литературой и реальностью (элемент «кружковой» игры старших формалистов с учениками): «Шкловский говорит, что все его способности к несчастной любви ушли на героиню “ZOO” и что с тех пор он может любить только счастливо. Про “ZOO” он говорил, что в первом (берлинском) издании эта книга была такая влюбленная, что ее, не обжигаясь, нельзя было держать в руках» [Гинзбург, 1989, с. 6–7].
122
Интересный случай интерпретации в фарватере Тынянова (включая стиль, терминологию, логику) обнаруживает новейшее исследование, которое не может не привлечь нашего внимания в связи с параллелью Достоевского и Шкловского. «Достоевский маскирует литературный облик литературы, карнавализует интертекстуальные связи литературы. В его письме всегда присутствует некий литературный скандал, “надевание масок” на литературный факт или разоблачение его. В его письме обнаруживается либо «полное совпадение словесных масок», либо их снятие в целях раскрытия самой литературности литературы» [Куюнджич, 2003, с. 149].
123
Имея в виду в первую очередь условность частичного совпадения текста и реальности и лишь отчасти противостояние адепта и противника эмиграции, Шкловский пишет в «Предисловии автора» (кстати, не менее игровом, чем основной текст): «Я построил книжку на споре людей двух культур; события, упоминаемые в тексте, проходят только как материал для метафор» [Шкловский, 2002, с. 271].
124
Аналогичную драму переживает протагонист Андрея Белого, действующий в книжке «Одна из обителей царства теней», выпущенной сразу по возвращении писателя из заграницы в 1924 г.: всю жизнь он «числил себя западником», однако «двухлетнее пребывание в Берлине окрашено теневыми какими-то настроениями; и сравнение их с настроениями от работы и жизни в России 1918–1921 годов вызывает сравнение тени и света. Да, светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. А пребывание в Берлине окрашено тенью» [Белый, 1924, с. 5]. Не исключено, что книга Белого оказала на Шкловского определенное риторическое воздействие. Так, говоря здесь о социальных катаклизмах, Белый пишет, что «сдвиг был, он сломал все устои, сорвал он безжалостно старые вывески». А у Шкловского в «Третьей фабрике» (1926), вновь меняющей местами пространства тоски, есть глава о перепутанных вывесках с поверхностной отсылкой к сказочному сюжету Ханса Кристиана Андерсена.
125
Ср.: «От романтиков редко ускользала элементарно-трудовая основа всякого творчества, пусть и восходящего к самой высшей выси. Шеллинг восстановил одну из любимых идей Ренессанса: познание через делание, кто сделал – тот познал. Кажется, это лучшая из заслуг Шеллинга в эстетике. Шеллинг способствовал преодолению в эстетике чистого интеллектуализма, голой познавательности, ничем другим не обогащенной» [Берковский, 2001, с. 35].
126
О «мнимости» и «действительности» предательства Шкловского см. полемику [Sheldon, 1975, р. 86–108; Erlich, 1976, р. 111–118].
127
Теоретическое обоснование такой эволюционной последовательности на русском материале [Лотман, 1992, с. 81–86]. В общем виде эта модель восходит к структурной антропологии Клода Леви-Стросса, постулировавшего необходимость наличия третьего (пустого) члена между контрастными элементами оппозиции, некой переменной, где эти противоположности сложно, многозначно, противоречиво сосуществуют (о логике превращения бинарных структур в тернарные см. [Иванов, 1972, с. 206–236]).
128
Тем более понятно, что обязательность триединства очевидна для «эклектичного» Эйхенбаума в дореволюционный период. Ср. типичные для этого времени спекуляции в духе школьного платонизма: «В каждом явлении скрыты три основы, три точки, явление есть треугольник <…>: образ (понятие), эмпирический факт и идею. Образ – Бог-отец. Факт – Бог-человек (в нем – мужественное и женственное). Идея – Дух Святой. Первое – просто существует, есть. Второй – вечно осуждается, распинается, и вечно воскресает, оправданный в понятии. Третий – приемлется или не приемлется, встречается хулой или творится верой. От факта два пути в две разные стороны: к Богу-отцу – философия, к Духу Святому – искусство» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 30–31].
129
Ср., например: «С внутренней стороны – это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством, добродетелью или гениальностью; с внешней стороны, по исполнению – это мимическая манера обыкновенного хорошего итальянского буффо» [Шлегель, 1983, с. 283].
130
Так, Лидия Гинзбург пересказывает со слов Эйхенбаума «характерный эпизод». Будучи в Москве, тот отправился ночевать к Шкловскому. Эйхенбаум предложил выпить и пообщаться, а Шкловский заявил, что должен выспаться, и улегся без лишних разговоров [Гинзбург, 2002, с. 13].
131
Тяготение Шкловского к метапрозе не исключает обращения к так наз. «конструктивному» роману, не менее актуальному в то время (обзор жанра см. [Флакер, 2008, с. 151–160]). Шкловский вносит практический вклад в развитие формы, выпадающей из его научно-беллетристического проекта, но важной для современного ему культурного поля. Как бывший наставник и даже отчасти импресарио «Серапионовых братьев», он не может оставаться в стороне от второго магистрального пути литературы.
132
О Шкловском и Пильняке см. [Ханзен-Леве, 2001, с. 526–527].
133
Так, говоря об искажении Белым замысла в ходе творческого делания, Шкловский подчеркивает личную причастность к материалу: «Единство литературного произведения – вероятно, миф, так кажется, по крайней мере, мне, писавшему полубеллетристические вещи и видавшему много, как их писали [Шкловский, 1929, с. 215]. Очевидно, что имеется в виду, с одной стороны, опыт «Сентиментального путешествия», с другой – деятельность группы «Серапионовы братья», к которой примыкал сам и которой давал уроки словесности в виде программной брошюры «Розанов» (1921). Кстати, в «Теории прозы» этот текст идет предпоследним, предваряя «Очерк и анекдот», где прогнозируются пути развития литературы (для второго издания 1929 г. это уже анахронизм, но здесь это не важно).
134
Этот конструктивный принцип отмечал еще ученик Шкловского и автор одной из первых отдельных работ о нем Теодор Гриц: «Рассказчик служит нитью, на которую нанизываются мысли, рассуждения, воспоминания, превращая его тем самым в своеобразный литературный персонаж. Литературная маска рассказчика (некоторыми своими точками, очевидно, совпадающими с реальной личностью автора) определяет основные стилистические черты произведения» [Гриц, 1927, с. 7–8]. Трудно не заметить связи с «ZOO», где в 22-м письме идут рассуждения о конферансе как о единственной актуальной связке отдельных фрагментов и о том, что таким примером является «ZOO».
135
Ср. амбивалентное, но горькое замечание Лидии Гинзбург конца 1927 г: «Веселые времена обнажения приема прошли (оставив нам настоящего писателя – Шкловского). Сейчас такое время, когда прием нужно прятать как можно дальше» [Гинзбург, 2002, с. 54].
136
Анализ социального контекста картины см. [Burns, 1982, р. 73–81]. Классический феминистский анализ фильма см. [Маупе, 1989, р. ПО-129. Анализ синхроной рецепции картины см. [Youngblood, 1991, р. 119–122]. Наиболее подробный разбор дан в [Graffy, 2001]. Интерпретацию фильма в аспекте тела и физиологии героев см. [Булгакова, 2005, с. 156–161]. Опыт дилетантского психоанализа картины см. [Зоркая, 1997, с. 89–97; 1999, с. 210–219]. Русскоязычный обзор критики см. [Янгиров, 1998, с. 15–17].
137
Гетеросексуальной чувственностью пронизан эпистолярный роман «ZOO» – сублимация любви с помощью теории литературы, и даже суровый герой «Сентиментального путешествия» использует малейший повод эротического переживания: «В ту войну я был молодой и любил автомобили, но, когда идешь по Невскому, и весна, и женщины уже по-весеннему легко и красиво разодеты, когда весна и женщины, женщины, трудно идти по улице грязным. Трудно было и в Киеве идти с автомобильными цепями на плечах среди нарядных; я люблю шелковые чулки» [Шкловский, 2002, с. 172–173].
138
Виды с аэроплана есть и в «Третьей фабрике», но это полет служебный, вызывающий раздражение повествователя: «Облака и земля некрасивы. Нет эстетической привычки к этому ракурсу. На полях тропинки как трещины. Много чужого поля истоптано внизу» [Шкловский, 2002, с. 388]. Это опять-таки симптом уставшего тела, почти лишившегося чувств.
139
«Движение в литературе слагается из: 1) притяжения; 2) отталкивания и 3) инерции. <…> Притяжение <в литературе> может быть только к тому, что отдалено от нас некоторым расстояниемб иначе оно никак не может быть замечено. <…> Закономерность в литературных движениях гораздо больше обуславливается отталкиванием, чем притяжением. Важно то, что здесь мы не выходим за пределы родной литературы. Отталкиваться от литературных явлений на чужих языках не имело бы ни малейшего смысла. Можно бороться лишь с их отражением в родной литературе. <… > Историки литературы до сих пор слишком много времени уделяли изучению литературных притяжений и инерции. Творчество по контрасту, гораздо более важное, гораздо менее привлекало внимание» [Розанов, 1990, с. 20]. В приведенном отрывке обращает на себя внимание стихийное «почвенничество», в начале XXI в. кажущееся глубоко реакционным. Однако литература – это сфера художественной культуры, более всего сопротивляющаяся открытости и размыванию границ. Литература, достигшая расцвета в романе, – рупор эпохи модерна, связанная со строительством наций и проведением соответствующих границ. Теория Розанова превосходно отражает ориентацию литературы на родной язык, чьей идентичности помогает нередко угрожающее присутствие чужого. Как бы это ни диссонировало с эпохой глобализма.
140
Вообще, замысел издать отдельную книгу о молодом (35 лет) и малопочтенном литераторе, заплутавшем между наукой, публицистикой и художественной прозой, был прямым вызовом традиции юбилейных изданий наподобие знаменитого Венгеровского сборника. Семантика этого жеста состояла также и в отнесении Шкловского к числу наиболее злободневных писателей современности: сборник статей о нем органично вписался бы в ряд, начатый аналогичными работами, такими как сборник о Вс. Иванове, изданный «Никитинскими субботниками» в 1927 г., «Михаил Зощенко. Статьи и Материалы» (Л., 1928) и т. п. В черновиках готовившейся статьи Тынянов писал о Шкловском: «Я думаю о нем, как о писателе нового типа. У него есть данные для этого. Совсем новые, совсем голые явления не выживают. Судьба их плодовита для других, другие едят ее. Так съели, как тотем, Хлебникова. Нужна какая-то смесь, даже неразбериха, чтобы не оказаться вне литературы, быть с нею связанным» [Тынянов, 1977, с. 569].
141
Трудно не заподозрить, что перечисление одиозных для тогдашнего читателя терминов раннего формализма, как и синтаксическая конструкция фразы, в целом отсылают к фрагменту из 1-го короба «Опавших листьев», который Шкловский приводит в финале работе о Розанове. Для него это аллегории собственного творчества: «…Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины. – Что это? ремонт мостовой? – Нет, это “сочинения Розанова”. И по железным рельсам уверенно несется трамвай. Я применяю это к себе» [Шкловский, 1990, с. 139].
142
Ср.: «Газеты, я думаю, так же пройдут, как и “вечные войны” Средних веков, как и “турнюры” женщин и т. д.» [Розанов, 1990, с. 29]. Обращает на себя внимание, что «женщины», частотные для мотивного словаря Шкловского, исчезают в его пересказе Розанова и вновь появляются у Платонова уже в связи с темой одиночества, со всей возможной серьезностью обыгранной в Ц.
143
В более поздней статье австралийская исследовательница остроумно анализирует текстовые аллюзии на СП, которые обнаруживаются в «Белой гвардии», а в итоге приходит в выводу, что Шкловский с его нечеловеческой активностью и проницательностью, идеологически близкий Булгакову, но органически чуждый его жизненным интуициям, послужил одним из далеких, многократно искаженных, но все же прототипов Воланда [Михайлик, 2002, с. 482–484].
144
Впрочем, современники, симпатизировавшие формалистам, считали «алхимиками» как раз их противников: «В сфере изучения явлений духовной культуры до сих пор еще господствует алхимические воззрения, давно изжитые в науках о природе. Современное естествознание, за исключением немногих чисто описательных наук, далеко отошло от конкретного явления. Оно безжалостно кромсает, режет и расчленяет живой, единый и целостный факт, изучая в изолированном виде все его составные элементы: чем чище и полнее изоляция, тем лучше. <…> В науках о культуре алхимисты и натурфилософы до сих пор еще обладают огромным влиянием, и всякая попытка к новому и новому расчленению изучаемых явлений, к абстрагирующему анализу встречает зачастую резкий отпор и презрительные усмешки» [Энгельгардт, 1995, с. 109–110].
145
Ср. также в связи с репликой «Все мерзавцы…» фрагмент из киевских воспоминаний И. Эренбурга: «Метеором промелькнул В Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех» [Чудакова, 1988, с. 76].
146
Один из рецензентов всерьез сличает фактографию СП с такими текстами, как: Перетц Г.Т. Записки коменданта Таврического дворца. Пт., 1918; Ропшин В. [Савинков Б.] Из действующей армии; Лунгин Н. [Степун Ф.] Письма прапорщика-артиллериста. М., 1918; Керенский А.Ф. Дело Корнилова. М., 1918; Верховский А.М. Россия на Голгофе. Пт., 1919 [Вишняков, 1921, с. 210–211].
147
Ср. реакцию Драгоманова на истерику Некрылова: «Ну, милый, милый, брось, чего там… Наше время еще не ушло. Живыми мы в сейф не ляжем» [Каверин, 1977, с. 315].
148
Одномерность и неполнота образа Некрылова корреспондирует с неполнотой в описании той роли, которую играл формализм в литературной и политической жизни второй половины 1920-х годов. По жесткому замечанию позднейшего критика, Каверин не менее страдал от самоцензуры, чем Шкловский, не раз удостаивавшийся его нелестных отзывов. В частности, в романе формализм трактуется лишь в противостоянии академической науке, хотя в это время «его приканчивали за противостояние марксизму» [Иванов, 2002, с. 210].
149
Эйхенбаум в своем настороженном отзыве на футуристический диспут в феврале 1914 г. остается адептом традиционных взглядов; теоретические поиски Шкловского его предсказуемо пугают: «…поток непозволительных глупостей; <.. > тут были слова и о вещах, и о костюмах, и о том, что слово умерло, что люди несчастны от того, что они ушли от искусства, и т. д. Это была речь сумасшедшего» [Чудакова, Тоддес, 1987, с. 12]. Через четыре года ситуация кардинально изменится. 22 июля 1918 г. Эйхенбаум пишет в дневнике: «Заходил В.Б. Шкловский – читал черновик своей работы о “сюжетосложении”. Очень интересно и очень заманчиво! <.. > Сильно расшевелило меня – стал думать о своей работе. Смущает меня только какая-то неопределенность ее. Я мечусь между больными вопросами и остриями и конкретно-эмпирической работой» [Эйхенбаум, Дневник, 245, 13]. Смена оптики приводит, среди прочего, к смене ролей. Недавний «сумасшедший» превращается в предмет подражания и причину негативной авторефлексии.
150
Исключения – статья «К вопросу о звуках стиха» (1920), написанная под влиянием Осипа Брика, и, по сути, единственная «чисто» формалистская книжка Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922).
151
Оппоненты формалистов не без удовлетворения отметили то, что сами посчитали проявлением кризиса и «оппортунизма» (подробнее об этом восприятии «бытовой» теории см. [Hansen-Loeve, 1986, р. 98 passim]. Ученики и последователи, драматически переживавшие свою «вторичность», не приняли его доклад на семинаре в ГИИИ, признавая в приватных текстах: «…мы встретили его новую, любимую, вынянченную научную идею единым фронтом недоброжелательства и сухих подозрений» [Гинзбург, 2002, с. 396].
152
Подробный сравнительный анализ пересекающихся концептов быта, противостоящих специфическому пониманию Эйхенбаума, см. [Флакер, 1986].
153
«Н.С. Гумилев звал меня в акмеисты и напечатал два моих стихотворения в “Гиперборее”», – пишет Эйхенбаум в 1929 г. Интересно, что в предыдущем абзаце, разъясняя современному читателю, почему он писал стихи, Эйхенбаум явно корректирует мотивировку, пропуская свое тогдашнее восприятие стихотворной речи через более поздний код остранения: «Стихи рождаются из потребности задержаться на слове, рассмотреть его, поиграть с ним. В обычном употреблении слова несутся беспорядочным, мутным потоком <сниженный аналог бергсоновского duree? – Я.Л.> – стихи замораживают их и превращают в прозрачные льдинки, играющие на солнце цветами радуги» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 53].
154
Ср. из письма Шкловскому: «К тебе и к Юрию приближается проклятый пушкинский возраст – мне очень больно за вас. Толстой отделался от него “Войной и миром” и Ясной Поляной. <…> Мое счастье, что в ваши годы я попал в разгар революции и при светильне писал “Молодого Толстого”» [Панченко, 1984, с. 291]. После публикации Тыняновым и Якобсоном реставраторских тезисов по «проблемам изучения литературы и языка» (Новый ЛЕФ. 1928. № 12) такая прямота оценки в высшей степени показательна. Когда во главу угла ставится проблема социальной и личной идентичности, как это произошло с формалистами в указанный период, чисто методологические декларации перестают убеждать своих создателей. Инициатива Якобсона, не чувствующего себя эмигрантом, столкнулась с внутренней эмиграцией тех, кто остался в России и осознал свою выключенность из истории.
155
Есть мнение, что в научных статьях Тынянова ощущается вдохновение, которого не видно в его художественных текстах [Золотоносов, 1995/1996, с. 21]. Думается, что это оценочное суждение справедливо, пусть и с рядом допущений, и для Эйхенбаума. Художественное творчество в его традиционном воплощении как было, так и осталось для Эйхенбаума кошмаром графомании, пусть и эффектно стилизованным в 1930-е годы под художественную задачу (см. его роман «Маршрут в бессмертие», 1934).
156
На тот момент матрица спекулятивной диалектики была уже достаточно усвоена формалистами и их противниками. Гегель в равной мере приватизируется и теми, и другими. Разница в том, что формалисты пытаются не использовать, но прочитать Гегеля (см. [Парамонов, 1995; Mitchell, 1976; Калинин, 2001]).
157
Это не отменяет возможности обратного чтения, при котором Эйхенбаум использовал мировоззрение Толстого как «свое», что отмечает, в частности, ведущий специалист по творческой «кухне» ученого. «“Мой временник” был, в первую очередь, моральным актом, помогающим пережить тот крайний упадок сил, который ученый пережил за четыре года до этого. Это было выражение профессионального кредо, опубликованное в последний возможный момент, в апреле 1929 г.» [Any, 1994, р. 113].
158
Эта линия оформляется у Пушкина, демонизируется у Гоголя, онтологизируется у Достоевского и абсолютизируется у Андрея Белого, одновременно становясь объектом пародии. Обреченность Петербурга корреспондирует у Белого с жалкой, но неустранимой «апокалиптичностью» его обитателей (см. [Ciogan, 1973, р. 100–102]).
159
Подошла к концу Гражданская война на основной территории страны, закончился период «военного коммунизма», начался НЭП. Накануне этих событий в рядах интеллектуалов царит растерянность и тревога, которую и передает, главным образом, заметка Эйхенбаума.
160
Разрушение здания истории с позиции дня сегодняшнего – центральная тема этой этапной работы Эйхенбаума. Картезианская метафора размывается бергсоновским потоком неделимого и нередуцируемого времени.
161
Петербургская сторона – воплощение «нового» века в истории города, район разночинцев и буржуа, чьи мотивы вовлекаются в «петербургский текст» одновременно с расцветом модерна и появлением блоковской «Незнакомки». Ср. также маршруты Парнока из «Египетской марки» Мандельштама, воспоминания Георгия Иванова, медитации лирического героя «Белой ночи» Юрия Живаго, угнездившегося на подоконнике верхнего этажа в типичном модерновом «небоскребе» вместе с «дочерью степной небогатой помещицы».
162
Человек, по Ницше, – это лишь мост от человека к сверхчеловеку. Петербургский мост по определению, да и по начальной экспликации самого Эйхенбаума, концентрирует в себе идею петровского локуса – места, которое по воле монарха стало пространством прорыва, экспериментальной пустотой, предназначенной для концептуального заполнения. Не исключено, что Эйхенбаум был знаком со статьей Ольги Форш, где дан прозорливый анализ литературной генеалогии петербургских персонажей, тяготеющих к одному из двух полюсов – пассивнопровокаторскому, выросшему из подполья и гоголевской шинели, и активному, революционному, чьей инициальной меткой является сам Петр. «Мыслеобраз Петра – это крепкие дрожжи, это зов от человека к сверхчеловеку» [Форш, 1925, с. 56].
163
Речь идет, разумеется, о трамвае, одушевленном и мифологизированном в многочисленных текстах начала XX в. По заключению Р.Д. Тименчика, «смысловые валентности» трамвая как литературного символа нашли свое кульминационное завершение в стихотворении Н.С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (1920). К их числу можно отнести обожествление трамвая, уподобление его Громовержцу, анимизацию трамвая как носителя энергии света и одновременно его демонизацию, причисление к слугам Танатоса (мотив отрезания головы); наконец – бестиализацию трамвая, его превращение в стремительное, преодолевающее пространство животное. Трамвай начинает выступать диахроническим трансформатором петербургского мифа (см. [Тименчик, 1987, с. 137–141]). Текст Эйхенбаума реализует именно демонический аспект трамвайной символики, более того, метонимия «скелет трамвая» предельно актуализирует тему смерти (мертвый трамвай, несущий герою смерть). В данном своем негативном проявлении трамвай очевидным образом встраивается в парадигму Громовержца (грохот и метание искр) и приобретает черты грозного Властелина, скачущего по мостовой вслед пушкинскому Евгению. «Я» эйхенбаумовского стихотворения – это «Я», наследующее тому маленькому человеку, который у Пушкина «живет в Коломне; где-то служит, / Дичится знатных и не тужит / Ни о почиющей родне, / Ни о забытой старине». Позднее, а именно во «Временнике», Эйхенбаум реконструирует нежелание мириться с уделом маленького человека и постулирует свободу воли, внеположную пушкинскому герою. В этом смысле трамвай, несущийся по пятам героя в стихотворении 1911 г., может быть осмыслен как вестник судьбы, спасение от которого – в волевом преодолении слабости (состояния «я не смею»). Воля и помогает пересечь «фантастический» мост к сверхчеловеку.
164
Любопытно, что ни до, ни после формалисты не писали «двойных» предисловий к научным сборникам. К такому невольному жанровому эксперименту их подтолкнула методика и прагматика семинарского занятия.
165
Шкловский при этом не пил вообще. «После московского диспута Эйхенбаум отправился ночевать к Шкловскому. Пришел он в очень возбужденном состоянии: “А знаешь, Витя, хорошо бы было выпить чего-нибудь”. – “Да у меня ничего нет. И поздно теперь. Вот приедешь в следующий раз, я тебе приготовлю горшок вина”» [Гинзбург, 2002, с. 13].
166
Характерен «голос из хора» слушателей Института истории искусств: «Наши учителя всех нас заразили чувством истории. На курсах мы не просто учились. Мы ждали суда истории, хотя прекрасно понимали, что мы еще не исторические личности» [Голицына, 2003, с. 77]. Несмотря на то что Валентина Голицына участвовала в «младоформалистском» сборнике «Русская поэзия XIX века» (1929) и впоследствии стала квалифицированным библиографом, ее позицию отличает подчеркнутая «незаметность» – это важное, едва ли не основное свойство поколения.
167
Вместе с тем трудно не вспомнить, что еще в 1921 г. Эйхенбаум растравлял себя мыслями о том, что «каждому поколению отведен свой участок времени», что наступает «точка зрелости и ужаса», когда вдруг поколение видит себя «в цепях Истории», и теперь никуда не уйти. «К такому мигу сознания подошло сейчас поколение людей, которым 35–40 лет», – резюмирует Эйхенбаум, со страхом, надо полагать, ждущий своего тридцать пятого дня рождения [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 533].
168
О фобии предательства в рядах формалистов писали многие, начиная с классической монографии Виктора Эрлиха 1958 г., «разоблачившего» ренегатство В.Б. Шкловского, и заканчивая Ричардом Шелдоном, который назвал извилистую тактику того же персонажа «приемом показной капитуляции». Применительно к Эйхенбауму Кэрол Эни пишет: «ОПОЯЗ бросил перчатку как русской критической традиции, так и официальной советской; любое смягчение крайней позиции было бы воспринято как компромисс и крах. Хуже того, привлечение внелитературного материала связывалось в сознании Эйхенбаума с принятием или, по крайней мере, с признанием того самого режима, который теперь на глазах сокращал пространство свободы» [Any, 1994, р. 85].
169
За три года до этого на страницах журнала «Печать и революция» (1924. № 5) появился «спор вокруг формального метода». Несгибаемый Эйхенбаум и колеблемый Томашевский отбивались от наседающих «марксистов». Один из нападавших, Георгий Горбачев, поставил в заглавие своей реплики прямую угрозу: «Мы еще не начинали драться». Примечательно, что в том же году из печати выходят его «Очерки современной русской литературы», где он, по позднейшему мнению составителей биобиблиографического словаря «Писатели современной эпохи» (М.: ГАХН, 1928), слишком доверяет работам того же Эйхенбаума.
170
Именно в таком духе интерпретирует скандальный Тенишевский диспут биограф Эйхенбаума [Кертис, 2004, с. 152].
171
Упрощение было излюбленным приемом ОПОЯЗа. Например, говоря о диалектике, Тынянов имеет в виду простую «смену знака», а не «рефлексивный момент осознания через отрицание» [Калинин, 2001, с. 293].
172
Участники «Бумтреста» были исключительно элитарной группой, не имевшей ничего общего с типичным контингентом ГИИИ. Ср.: «Вчера, – рассказывал Коля <Н. Чуковский. – Я.Л.>, – я встретил Гуковского. Очень мрачен. Будто перенес тяжелую болезнь. – Что с вами? – Экзаменовал молодежь в Институте истории искусств. – И что же? – Спрашиваю одного: кто был Шекспир? – Отвечает: “немец”. – Спрашиваю: кто был Мольер? А это, говорит, герой Пушкина из пьесы “Мольери и Сальери”. Понятно, заболеешь» [Чуковский, 2003, с. 81]. Эта запись от 19 сентября 1927 г. красноречиво иллюстрирует уровень передового в классовом отношении студенчества.
173
С учетом культурной ситуации, сложившейся на момент перехода, последний может быть истолкован как иллюстрация скачка от «культуры 1» к «культуре 2» (в терминах Владимира Паперного). Обретение фильмом звучащего слова существенно повысило его риторические потенции: вобрав опыт авангардного эксперимента, фильм устремился в сознание зрителя на правах тотальной, а не условной, требующей достраивания реальности (ср. тезис о «высшем» реализме звукового кино [Эйзенштейн, 2001, с. 327].
174
В ранней молодости Шкловский готовился стать скульптором и работал в мастерской у Шервуда, без устали трепеща перед экзаменом по рисунку в Академию художеств. Рисовал он Германику. На поприще этом, как известно, не преуспел (см. [Милашевский, 1989, с. 18]).
175
Напомним, что, открыто выступая против представления об образе как об основе искусства, Шкловский обрушивался не на самого А.А. Потебню, а на его эпигонов и так называемую широкую, т. е. буржуазно просвещенную публику (подробнее см. [Laferriere, 1976]).
176
«Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а не его узнавание» [Шкловский, 1929, с. 13].
177
Таково, например, «новое живописное миропонимание» Бурлюка и его сподвижников в изложении мемуариста: «Искусство, – говорил он <Бурлюк. – Я.Л.> (и в ту пору многим это казалось новым), – искажение действительности, а не копирование ее. Фотография тем и плоха, что никогда не ошибается. Современная живопись покоится на трех принципах: дисгармонии, дисимметрии и дисконструкции. Дисконструкция выражается в сдвиге либо линейном, либо плоскостном, либо красочном» [Лившиц, 1991, с. 74]. Обратим внимание на противопоставление фотографии заумной живописи как на оппозицию слепого копирования и преображения (как видения у Шкловского).
178
Как это часто происходит у Шкловского, книга реструктурирует готовый материал, разбросанный по более ранним статьям, и тем самым демонстрирует его новое качество (подробнее об этом приеме у Шкловского см. [Левченко, 2003. с. 75–85] и в настоящей книге в главе V]). Здесь это продиктовано стремлением осмыслить транзитное состояние формальной теории на пути от статических концепций к динамическим, имевшее место на момент выхода книги в 1923 г.
179
Здесь сознательно опускается более или менее известная и всесторонне проработанная близость идей Шкловского идеям Бертольда Брехта, чье влияние на так наз. «Веймарскую» теорию кино в Германии переоценить не легче, чем заслуги русских формалистов [Aitken, 2001, р. 4–26].
180
Этот термин Деллюк позаимствовал из романа Эдмона де Гонкура «Фаустина» (1881), где оно означает красоту как ясность, проявленность линий предмета, о чем фотография дает наиболее полное представление.
181
В бытность Деллюка с 1921 г. и до своей скоропостижной смерти в 1924 г. главой «Cinema», первого французского интеллектуального журнала о кино.
182
Взаимная проницаемость природы и духовной жизни была чрезвычайно важна для практиков романтической живописи (Каспар Давид Фридрих) и теоретиков романтической поэзии (Новалис) в Германии. То же касается Дж. Констебля и У Вордсворта в Англии, оказавших решающее влияние на американскую натурфилософию (Г. Торо, Р.У Эмерсон). Своеобразный «минус-язык» природы, возвращающий человека в пространство иллюзорной «подлинности» составляет важную ячейку того «паззла», из которого складывалась впоследствии теория фотогении. Ее бытование в каком-то смысле перебрасывает мост к дологической, до-рефлексивной стадии развития индивида, утопию которой упрямо воспроизводит европейская мысль, тщетно пытаясь найти убедительную альтернативу дискурсивному знанию (классический очерк этих поисков см. [Иванов, 1999]).
183
Для Шкловского физическая природа киноизображения имеет сначала чисто психологический, а затем – семантический характер. Тема фильма может быть заявлена неясно, «но, несмотря на это, мы можем уяснить ее в контексте, так как само изображение, воспроизводя ее, – ее же проясняет» [Майланд-Хансен, 1993, с. 116].
184
Шкловский обнаруживает сюжет негативно, т. е. в случаях его «ощутимости», непривычности на фоне традиционного поступательного движения, совпадающего с уровнем фабулы. Инвариантная модель сюжета строится у Шкловского, в частности, на примере Стерна и Розанова, каждый из которых по-своему нарушает жанровые каноны литературы. Аналогичным образом сюжет в кино можно рассматривать исключительно как «перебивание действия», как чередование разрывов и демотивировок [Шкловский, 1923 (b), с. 49]. Поэтому идея сюжета сводится к ритуальному нанизыванию приемов по образцу волшебной сказки.
185
Принципиально широкий и не вполне проявленный смысл этих концептов позволяет проецировать их на самые различные группы феноменов и находить между ними типологические связи на общей лингвистической основе. О плотной проработке Тыняновым идей Соссюра о системности языка и Ж. Вандриеса о характере языковой эволюции см. комментарии Е.А. Тоддеса, А.П. Чудакова и М.О. Чудаковой в [Тынянов, 1977, с. 521].
186
В рабочем порядке проекционный метод относится к числу методов, «условно изолирующих художественное произведение от конкретного, исторически данного сознания его творца и критика – читателя и изучающих его как совершенно независимую в своем бытии “вещь”» [Энгельгардт, 1995, с. 97]. Эта стратегия предполагает последующую обратную проекцию проанализированной «вещи» в окружающий ее контекст и его соответствующую коррекцию, которая результируется в построении диалектической модели бытования произведения в истории. Оставляем за рамками рассмотрения оформившийся к концу 1920-х годов эксплицитный интерес формалистов к гегелевскому историзму.
187
Книга Балаша, в оригинале названная «Der Sichtbar Mensch, oder Die Kultur des Films» (Wien, 1924), была одновременно издана сразу в двух переводах, причем первый (сделанный силами ГИИИ) сохранил первую часть заголовка, а другой, вышедший при Московском Пролеткульте, – вторую. Заметим, что второй перевод значительно уступает первому по качеству и может рассматриваться разве что в специальном сравнительном исследовании.
188
Ср., в частности, полемическую статью Эйзенштейна «Бела забывает ножницы» (1925), в которой советский мэтр уличает Балаша в архаической абсолютизации видения вещи как гарантированного проникновения в ее суть. Для изменения сути достаточно одного взмаха ножницами на монтажном столе, шутит Эйзенштейн [2001, с. 476–481].
189
Ср. аналогичное уточнение принципа фотогении, принадлежащее Леону Муссинаку, другу детства Деллюка и пропагандисту творчества Эйзенштейна во Франции, который полагал, что фотогения есть столкновение чувства и представления [Муссинак, 1926, с. 24], важное для наиболее совершенного на тот момент жанра – кинопоэмы, но более или менее безразличное для киноромана, только начинающего развиваться [Там же, с. 42–47].
190
Подробное рассмотрение «внутренней речи» у Эйхенбаума в ее связи с одноименной концепцией Л.С. Выготского см. [Galan, 1986, р. 124–130].
191
О «спецификаторстве» см. программную статью, автор которой рискнул выразить «коллективное» мнение школы [Эйхенбаум, 1987, с. 375].
192
Следует оговориться, что это не та «идеологическая задача», которую Эйзенштейн мыслил в качестве разрешающей силы «интеллектуального кино» [Эйзенштейн, 2001, с. 43], а именно отправной момент сообщения, суггестивная «реальность» которого усиливается за счет звуковой составляющей.
193
Как известно, брошюра «Воскрешение слова» (Пг., 1914) отличалась тем же импрессионизмом, что и критикуемые ею отсталые блюстители эстетических норм. Несмотря на то что через три года появилась первая систематическая статья «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (Сборники по теории поэтического языка. Вып. II. Пг., 1917). Шкловский так и остался генералом без армии. Собственно науку делали другие. Призыв «реанимировать ОПОЯЗ под предводительством Виктора Шкловского» (Тынянов Ю., Якобсон Р. Тезисы к проблеме изучения литературы и языка; см. [Тынянов, 1977, с. 283]), которым завершают историю русского формализма, был, скорее, риторическим жестом.
194
См. сжатый и насыщенный анализ двух философских направлений, оказавших влияние на эстетику остранения [Gunther, 1994, р. 13–27].
195
Основания для этой уверенности все же были. Базовые концепции раннего формализма были тесно связаны с театральным авангардом своего времени и служили ему параллельной теоретической базой. Подробнее см. [Jestrovic, 2002, р. 42–45, 46–47].
196
Автор фундаментального труда о русских в Германии не избегает ключевого для данной темы понятия «остранение»: «Русский писатель в Берлине имеет естественную привилегию остраненности. Он чужой, он не отсюда, для него нет ничего само собой разумеющегося. Еще больше это относится к эмигранту, который вовсе не собирается остаться в стране пребывания и натурализоваться. Его статус – надолго запрограммированная временность» [Шлегель, 2004, с. 284].
197
Шкловскому это нужно, чтобы уподобить берлинских русских обезьяне, мастурбирующей в клетке зоопарка: «Скучает обезьян – (он мужчина) – целый день. В три ему дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяньим делом. Обидно и стыдно это» [Там же, с. 285]. Мотив настойчивый – в том же 1923 г. Владислав Ходасевич описывает бродягу в стихотворении «Под землей»: «Где пахнет черною карболкой / И провонявшею землей, / Стоит, склоняя профиль колкий / Пред изразцовою стеной. / Не отойдет, не обернется, / Лишь весь качается слегка, / Да как-то судорожно бьется / Потертый локоть сюртука».
198
На «мелькающий» характер книги, подобной быстрому кино, впервые было указано в одной из первых рецензий, см. [Осоргин, 1923].
199
Которые, впрочем, такой возможностью не воспользовались. Современные статьи, добавленные при переиздании сборника в 2001 году, не дали ни теоретического прироста, ни внятного толкования классических текстов (см. сдержанный обзор [Kapterev, 2005]).
200
Дело не только в том, что Шкловский чего-то не мог или чего-то боялся после того, как написал письмо в ЦИК, вставил его в книгу и заключил «договор с дьяволом». По возвращении он окончательно утверждается как практик, и все его работы носят прикладной характер и отзываются на актуальный момент, даже книга «Материал и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”» (Л.: Федерация, 1928).
201
Специальное исследование повествования в фильме возобновилось во французской традиции, испытавшей прямое влияние русских формалистов [Metz, 1964, р. 52–90], и получило бурное развитие за океаном: [Chatman, 1978; Bordwell, 1985; Burgoyne, 1992, р. 69–122; Bordwell, 2004, р. 203–219].
202
В числе немногих теоретических проектов, не доведенных, впрочем, автором до сколько-нибудь законченного этапа, можно считать деятельность одного из сотрудников НИИК (Москва), чьи опыты были суммированы и увидели свет через десять лет после смерти автора (см. [Соколов, 2010]).
203
Ср. один из хрестоматийных тезисов: «Эволюционное изучение должно идти от литературного ряда к ближайшим соотнесенным рядам, а не дальнейшим, пусть и главным» [Тынянов, 1977, с. 281].
204
Именно Гинзбург, в своих записных книжках говорившая о «высоком искусстве» Бастера Китона, там же иронически воспроизводила внешнюю точку зрения на «неприличную киноманию» мэтров – доказательство их «неуважения к науке» [Гинзбург, 2002, с. 382].
205
17 ноября 1925 г. газета «Кино» опубликовала под этим заголовком редакционную передовицу, где говорилось о потребности советского
206
Чуть раньше этим вопросом задавался один известный писатель, веско заключивший, что кино до статуса искусства «еще не дозрело» [Толстой, 1924, с. 3].
207
Ср.: «Видение быта, которое Эйхенбаум предлагает в своем проекте толстовской творческой биографии, есть видение сквозь толстовский бинокль. В этом проекте автор трактуется как читатель (и Эйхенбаум утверждает, что Толстой был выдающимся по взыскательности читателем), с его помощью мы обозреваем интеллектуальную историю Европы с помощью толстовской оптики. Происходит, однако, и наложение двух оптик. Читатель толстовской биографии воспринимает литературный быт глазами двух разных свидетелей – Толстого и Эйхенбаума. Отношение последнего к своему литературному быту таково, что он просто разрешает себе воспринимать его, моделируя точку зрения Толстого» [Any, 1994, р. 127].
208
Эйхенбаум охотно поддерживал статус «присяжного» методолога ОПОЯЗа, разъяснявшего оппонентам принципы бытования школы. Началось это еще с тематического номера журнала «Печать и революция» (№ 5, 1924), где появилась небольшая статья «Вокруг вопроса о формалистах», но наиболее законченный вид формалистское кредо почти что post factum приобрело в докладе в словесном разряде ГИИИ 25 апреля 1925 г. В дополненном виде он был впервые опубликован в харьковском журнале «Червоний шлях» (1926, № 7–8) под названием «Теория формального метода». Здесь делался особый акцент на «революционном пафосе», «беспощадной иронии», «дерзком отказе от каких-либо соглашательств», на борьбе с «эклектиками и эпигонами» [Эйхенбаум, 1987, с. 379, 375].
209
Следствием необходимой «деформации» материала является непременное доминирование того или иного конструктивного принципа над другими. Очерк этих взаимоотношений см. [Hansen-Loeve, 1986, р. 15–25].
210
См. известную запись Корнея Чуковского о приезде из Москвы ревизора Карпова, резолюции о переходе на социальные методы изучения искусств и о единственном голосе «против» – голосе Эйхенбаума [Чуковский, 1997, с. 297].
211
Просто потому, что упоминается имя. Так принято в истории и литературы, и даже науки. Если не упоминается, то и говорить ничего нельзя, иначе – постмодернизм.
212
Существовало впрочем, и такое мнение, что формализм – прямое продолжение эстетического метода, его апостериорное превращение в науку. В данном контексте «старое наименование – эстетический метод – тем более уместно, что при констатирующем изучении исследователь получает определенные основания для построения новой эстетики, эстетики апостериорного порядка, которая будет составляться из выводов, силлогистически следующих из анализа отдельных явлений художественного творчества, составляющих предмет описания» [Вознесенский, 1926, с. 49].
213
Собственно, идея новой школы в том и состояла, чтобы изменить не «метод», но сами «принципы», по которым литература определяется как «предмет изучения» [Эйхенбаум, 1987, с. 375; курсив автора. – Я.Л.]. На первый взгляд может показаться, что это действительно умаление, однако дело идет не о замене очков, а о трансформации зрения. Методологические споры неуместны: метод будет следствием нового зрения.
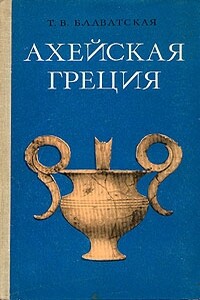
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.
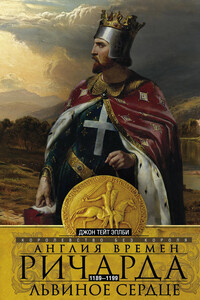
Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Лес часто воспринимают как символ природы, антипод цивилизации: где начинается лес, там заканчивается культура. Однако эта книга представляет читателю совсем иную картину. В любой стране мира, где растет лес, он играет в жизни людей огромную роль, однако отношение к нему может быть различным. В Германии связи между человеком и лесом традиционно очень сильны. Это отражается не только в облике лесов – ухоженных, послушных, пронизанных частой сетью дорожек и указателей. Не менее ярко явлена и обратная сторона – лесом пропитана вся немецкая культура.
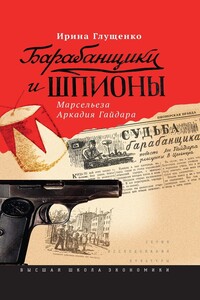
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.

Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.