Драма советской философии. - [11]
В таких условиях исследователю, вместо принципа «спокойного» научного детерминизма, положенного в основание его рациональных реконструкций, больше подходит вероятностный подход, при котором оценка «внешних» и «слабых» факторов становится не менее важной, чем строгий расчет действия главных сил с опорой на «объективные законы». (Поэтому теперь умные социологи и политологи больше похожи на психологов или даже психоаналитиков: они предпочитают базировать свои предсказания не столько на объективных выкладках ученых — экономистов, сколько на субъективных мнениях экспертов и результатах массовых опросов, выявляющих перемены в настроениях населения).
Все это означает, что кризис — не просто «сложная», многофакторная ситуация, которую трудно «определить»; это еще и состояние объективной неоднозначности, развитие которого вовсе не предопределено — ни «свыше», будь то воля Всевышнего или объективные экономические или исторические законы, ни сложившимися обстоятельствами. Говоря несколько упрощенно, здесь «свобода» теснит «необходимость», и не только обретает автономию, а просто — напросто уже перестает быть не то что «проявлением необходимости», но и ее «дополнением». Соответственно и в поведении человека место разумного расчета занимает малообоснованная, эмоциональная реакция — иногда подлинно свободное действие человека, руководствующегося не выгодой, а этическими принципами; иногда случайная массовая вспышка гнева и ярости — тот самый бессмысленный и беспощадный русский бунт, о котором писал А.С.Пушкин в драме «Борис Годунов». Пытаясь определить свое положение, активная часть общества теперь тем или другим манером самоопределяется и тем самым вносит собственный — быть может, решающий — вклад в совокупность факторов, от которых зависит будущее. Если кризис еще не разрядился в бунт — значит, наше будущее, как я надеюсь, пока еще не «судьба», а только «возможность» — в худшем случае оно предстает как угроза, в лучшем — как надежда.
То, что мы, собравшиеся в этой аудитории, не столько предаемся воспоминаниям об Эвальде Васильевиче Ильенкове, сколько пытаемся понять как социальный феномен и феномен российской культуры его труды, его способ мышления, его взаимоотношения с людьми, его судьбу — это, конечно же, факт и нашего собственного исторического, социокультурного самоопределения.
Вряд ли среди нас найдется кто — либо, кто не согласится с утверждением, что Эвальд Ильенков был именно философом — не «преподавателем философии» и «научным работником в области философских наук, преподавателем ВУЗа и ВТУЗа», со «званием учителя средней школы», как было записано в наших тогдашних дипломах. То, что среди нас все — таки были и философы, а не сплошь преподаватели философии или партийные функционеры и политпросветчики, подготовленные на «идеологическом факультете», само по себе может послужить основанием вывода, что марксистская философия у нас так и не выродилась окончательно ни в квазирелигиозную догматику, ни — того хуже — в политпропаганду в форме учебной дисциплины (то, что Э.В.Ильенков был «подлинным» марксистом, для всех, знавших его, вне сомнений).
Разумеется, философская мысль в нашей стране в то время была живой не только в «школе Ильенкова», которая воспитала немало ярких и во многом самобытных продолжателей его дела; немало вполне серьезных разработок на счету наших методологов естествознания или «системников» (которые, на мой взгляд, часто были весьма сомнительными марксистами), а также методологов истории (которые, напротив, были достаточно правоверными, хотя отнюдь не догматическими, «истматчиками»). Но именно «школа Ильенкова», на мой взгляд, предстает, с одной стороны, как носительница (и хранительница) классической европейской философской традиции в СССР, а с другой, как своеобразный «мост», связывающий европейскую культурную традицию в области философии с русской культурной традицией, которая была частично подавлена, но частично также и ассимилирована в состав социалистической государственной машины нашей страны. Этой «машине», при всей ее внешней идейной «окраске», конечно, больше отвечал не марксизм в качестве живого течения мысли, философского направления, а марксизм, превращенный в учебную дисциплину, с программой, утвержденной партийно — государственными «аппаратчиками», и таким образом превращенный во что — то вроде устава караульной службы.
Европейский «антигегелевский переворот» в философии, в ходе которого возникла марксистская философия, сам был компонентом широких мировоззренческих, интеллектуальных и психологических преобразований, вектором которых было движение от «системы» к «ситуации», от «всеобщего» к «индивидуальному», от «рационального» к «эмоциональному», от «логического» к «психологическому», от жесткого детерминизма в картине мира к «плюралистической Вселенной», от приоритета «общественных интересов» к приоритету «прав личности». Это воистину был переход от «царства необходимости» к «царству свободы» — во всяком случае в области сознания. Сама гегелевская философия уже была отмечена такой печатью перехода: поэтому в ней логика стала не «формальной», а содержательной, не однозначной, а «диалектической»; если «случайность» и не получила еще в системе Гегеля равноправия с «необходимостью», но ее «относительная автономия» — как «проявления и дополнения необходимости» — была все же признана. Гегелевская философия уже была подготовлена самим автором к тому, чтобы быть «перевернутой с головы на ноги», сохранив при этом свое «рациональное ядро»; абсолютный дух был самим Гегелем подготовлен к «приземлению», к превращению в «язык» (как подлинную, демистифицированную, «субстанцию» культуры); в «национальную» или «классовую» идеологию; в «общественное сознание» и т. п. Он был подготовлен и к тому, чтобы перестать быть предметом философии как «метафизики» и стать предметом психологии как «позитивной науки». Какой бы компонент европейской культуры прошлого столетия мы ни взяли, везде можно заметить соответствующую смену приоритетов и трансформацию методов. Особенно заметно это, кстати, в исторических превращениях психологии этого периода, в спектре предметов которой мы найдем и бергсоновское «сверхсознание», и дильтееву «жизнь духа», и логическое мышление, и социальное поведение, и — в самом конце спектра — экспериментальные исследования сознания и физиологию нервных процессов (которая была поистине «психологией без души»).

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.

Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
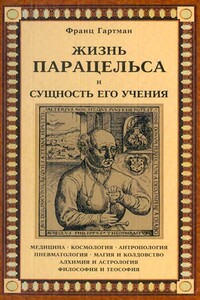
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
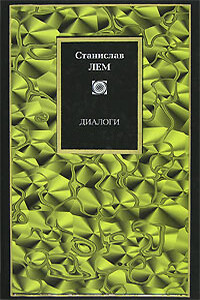
Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.