Драма и действие. Лекции по теории драмы - [189]
Стремясь углубить обычные представления о Паратове, критик утверждает, будто Сергей Сергеич направляется к Ларисе с сознательным намерением убедиться в том, что эта чистая и гордая женщина «так же покорно, как и он, подчинилась жизни, позволила ей сломить себя, — и найти в этом оправдание собственному поражению»[475]. Но реальное драматическое развитие образа Паратова состоит в том, что он в Бряхимове тоже переживает драму, а не просто проявляет некие свойственные ему изначально качества.
В Паратове вновь вспыхивает любовь к Ларисе. Вспыхивает, чтобы тут же погаснуть. И тогда наступает его необратимое падение. Ларисе еще предстоит узнать всю меру этого падения. Но перед тем, как покинуть дом Карандышева, оставшись на мгновение наедине с матерью, она прощается с ней очень значащими словами: «Или 'тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге».
Как и другие драматические герои, начиная с героев Эсхила и кончая героями Шекспира, Чехова и Брехта, Лариса стоит перед необходимостью выбирать между разными возможностями. Драматический герой, подобно витязю из сказки, оказывается на распутье. И выбор пути во многом зависит от него самого.
Конечно, не всегда этот выбор делается осознанно. Так, например, шекспировский Ромео, помня про Джульетту, осознанно отвергает попытки Тибальта втянуть его в ссору. Но когда Тибальт убивает Меркуцио и сам Ромео оказывается виновным в смерти друга, он на роковое мгновение забывает про Джульетту. В порыве боли, страдания, возмущения он «выбирает» путь, по которому идти не хотел, и в дуэльной схватке убивает Тибальта. Выбор Ромео, как и выбор, совершаемый многими другими драматическими героями, обычно очень трудно определить как только «правильный» или только «неправильный». Этот выбор драматичен, то есть является результатом безотчетных побуждений и ведет к сложным результатам.
Что можно сказать о выборе, сделанном Ларисой? Не идти на риск было бы свыше ее сил, значило бы отказаться от забрезживших возможностей, в которые ей так хотелось поверить. Ясно лишь, что Лариса вынуждена выбирать. Идя на риск, она вовсе не уверена в победе, ибо помнит про паратовское «я завтра уезжаю». Она жаждет победы, но готова и к поражению, и к единственно возможному страшному его последствию: готова броситься в Волгу.
Катастрофа, развязка, финал (узнавания-потрясения, очищение; смерть как избавление).
В 1850 году, после создания пьесы «Свои люди — сочтемся», Островский считал комедию «лучшею формою к выражению нравственных целей», а в себе признавал «способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме» (14, 16). Надо, однако, иметь в виду, что кульминационные, финальные сцены в «Своих людях» отнюдь не комедийны, а сугубо драматичны.
С течением времени, если считаться с жанровыми определениями, которые он давал своим пьесам, Островский все более обнаруживал способность рисовать жизнь не только в форме комедий. В позднейших его высказываниях, основанных, разумеется, прежде всего на личном опыте, мы уже найдем новое понимание жанровой природы русской драмы и новое представление о стоящих перед ним как драматургом задачах.
Народные писатели, говорил он в 1881 году, должны создавать такую драматическую поэзию, «для которой требуется сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий откровенный, громкий смех, горячие, искренние чувства». Все это недоступно мелодраме с ее «невозможными событиями и нечеловеческими страстями». Заставить зрителя плакать и смеяться может только драма истинных страстей, проникающая в тайники души. Страсти при этом должны дойти до степени напряжения, способствующей выявлению всей присущей им сложности. Тогда и положения, порожденные этими подлинно человеческими страстями, будут положениями возможными, то есть художественно правдивыми (12, 123–125).
Вот это напряжение страсти почувствовал Добролюбов в «Грозе». Тут, говорит критик, «является перед нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения, которые дают ему обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жизни».
Своих взятых из жизни персонажей Островский и ставит в особые драматические положения, побуждающие их обнаруживать себя, проявлять драматическую инициативу. Так рождаются и «сильный драматизм», и «крупный комизм» ряда его пьес. Когда читаешь работы, крайне преувеличивающие роль обстоятельств в пьесах Островского, когда говорят о «яркости», «глубине» его типов, но не видят присущей его персонажам драматической активности, драматической инициативы, волей-неволей вспоминаешь Боборыкина, считавшего Островского не драматическим, а эпическим писателем.
Разве ситуация в пьесе «Свои люди — сочтемся» задана, а не творится инициативой Большова, Подхалюзина, Липочки? Разве драма Катерины определяется лишь сложившимися обстоятельствами, а не ее характером?
Роль самих персонажей в создании тех драматических положений, из которых им надо «выпутываться», еще больше возрастает в пореформенных пьесах Островского. «Бесприданница» — один из его шедевров потому именно, что тут «ходом жизни» задано только одно обстоятельство — «бесприданничество» Ларисы. Все остальные обстоятельства, возникающие в пьесе, связаны с этим, «заданным жизнью». Но в еще большей мере они являются все же плодом деятельности, активности, инициативы самих героев, втянутых в коллизию.

В рубрике «Трибуна переводчика» — «Хроники: из дневника переводчика» Андре Марковича (1961), ученика Ефима Эткинда, переводчика с русского на французский, в чьем послужном списке — «Евгений Онегин», «Маскарад» Лермонтова, Фет, Достоевский, Чехов и др. В этих признаниях немало горечи: «Итак, чем я занимаюсь? Я перевожу иностранных авторов на язык, в котором нет ни малейшего интереса к иностранному стихосложению, в такой момент развития культуры, когда никто или почти никто ничего в стихосложении не понимает…».

История экстраординарной жизни одного из самых любимых писателей в мире! В мире продано около 100 миллионов экземпляров переведенных на 37 языков романов Терри Пратчетта. Целый легион фанатов из года в год читает и перечитывает книги сэра Терри. Все знают Плоский мир, первый роман о котором вышел в далеком 1983 году. Но он не был первым романом Пратчетта и даже не был первым романом о мире-диске. Никто еще не рассматривал автора и его творчество на протяжении четырех десятилетий, не следил за возникновением идей и их дальнейшим воплощением.
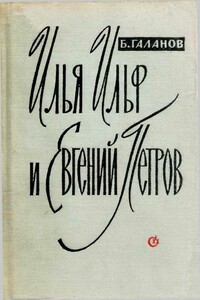
Эта книга — увлекательный рассказ о двух замечательных советских писателях-сатириках И. Ильфе и Е. Петрове, об их жизни и творческом пути, о произведениях, которые они написали совместно и порознь. Здесь анализируются известные романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», книга путевых очерков «Одноэтажная Америка», фельетоны и рассказы. Используя материалы газет, журналов, воспоминаний современников, Б. Галанов рисует живые портреты Ильфа и Петрова, атмосферу редакций «Гудка», «Правды» и «Чудака», картины жизни и литературного быта 20—30-х годов. Автор вводит нас в творческую лабораторию Ильфа и Петрова, рассматривает приемы и средства комического, показывает, как постепенно оживал в их произведениях целый мир сатирических персонажей, созданных веселой фантазией писателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.