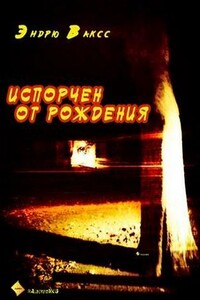Дознаватель - [5]
— Я не это имею в виду, — сказал я ему. — Неправильное место здесь…
— Да ладно. Что ты можешь со мной сделать?
— Не с тобой. Для тебя.
— О, да, — саркастично протянул он, закуривая, чтобы подчеркнуть неизбежность, которую он принял.
Я тоже закурил, меняя атмосферу.
— Прости, у нас тут сбой коммуникации, — сказал я, добавляя сожаления в голос, просто изменив интонацию. — Давай я попробую еще раз. Когда я говорю не то место, я имею в виду не ту страну. В большинстве сфер... большинстве областей, если хочешь... Америка передовая страна.
Я говорил тихо, следя за интонацией, отлично вписываясь в атмосферу.
— Когда дело касается технических характеристик, у нас все в порядке. Робототехника, астрофизика, микробиология, ИИ... мы всегда опережаем кривую. Иногда другие страны не могут даже засечь нас своими устаревшими телескопами. Если дело касается этих сфер, то ты в лучшем месте. Но есть одна область, где мы отстаем. Которую мы никогда не сможем догнать. Одна дверь навсегда закрыта для нас.
— Конечно, я знаю, — сказал он, вдувая струйку дыма в потолок, который не мог увидеть. — Стволовые клетки, да? И ты знаешь какой-то отдаленный альпийский
санаторий, где лечатся шейхи, вот, что ты мне скажешь. И все, что я должен сделать, это сказать тебе…
Я дождался, пока он замолкнет, чтобы быть уверенным, что он закончил.
— Нет, я скажу другое. И то, что я тебе скажу, это правда, — солгал я.
Затем я завернул ложь в свой первый слой шелка и блеска.
— Ты это уже знаешь, но ты о ней не думал. Вот что мы не можем делать. В Америке я имею виду. Мы не можем проводить эксперименты на людях, верно? Больше не можем. Раньше было можно. Таскиги>11 не знали, что они подопытные крысы. А раньше мы проводили эксперименты на солдатах, осужденных и психах — всех, у кого не было выбора — со всеми видами болезней до тех пор, пока это не стало незаконным. Вероятно, этот Нюрнбергский процесс прикрыл лавочку.
Его досье сказало, что у него есть диплом MBA первого уровня. Это не делало его гением, но он был образованным человеком. Я видел, как его глаза раскрылись, узнавая мои примеры. Я сделал голос досадливее и сказал ему еще кусочек правды.
— Но все эти двери теперь закрыты. Кроме того, есть фармацевтические компании, и у них есть мега-миллиарды, вложенные в лекарства, которые не должны попасть на рынок. Вот почему для получения одобрения министерства здравоохранения требуются десятилетия на то, что можно купить в аптеке в других странах.
Он кивнул, пытаясь скрыть свое невысказанное соглашение, прикусил сигарету. Так игрок пытается скрыть, что он знает о чем идет речь. Я продолжил.
— И даже если все это закончится завтра, даже если этот сезон открыли бы и испытания на людях разрешили, все равно это займет много времени. Даже если они начнут завтра, пройдут десятилетия, пока они не...
— Разовьются?.. — сказал он. Одно слово. Более чем достаточно, чтобы показать мне, куда вставлять скальпель.
— Гипер-разовьются, — повторил я, с нажимом. — Ни протоколов, ни контроля, никаких документов в медицинских журналах. Ни контрольных групп, ни плацебо. Что это значит? Это означает, что все получают лекарство. И каждый раз, когда есть прогресс, они увеличивают дозу. Высокоскоростная игра. Большинство умирает при первом лечении. Эти результаты зарывают с телами. Те, кто не умирает, переходят на следующий этап. И следующий. В конце концов, все они умирают. Затем вскрытия.
— Чтобы…
— Ускориться. Аутопсия занимает не больше нескольких часов. Затем переходят к следующей партии. Это процесс. Постоянное повторение. Пока не получается группа, которая действительно вылечилась. И даже тогда не все из них проходят путь до конца.
— Я не…
— Ты когда-нибудь видел чернобыльского сома? — резко перебил я его.
— А? Это рыба для?..
— Чернобыльский сом, восемь футов длиной, — сказал я, спокойно, словно читал энциклопедию, — весит больше сотни фунтов.
— Копался в моем прошлом? — насмешливо сказал он. — Я оставил свой городок миллион лет назад. Как только накопил на автобус.
— Да, и акцент свой бросил там же. Но ты помнишь сома на вкус?
— Я помню, какой он был раньше на вкус. И что?
— Так вот чернобыльского сома есть нельзя. Никто не может его есть. Вот почему они такие здоровые. Радиационное отравление превратило их в монстров.
Он потянулся во внутренний карман своего спортивного пальто и достал алюминиевую коробку. Открыл ее на столе, и я увидел, что у него там кедровые благовония и подставка под ними. Он зажег тайскую палочку и откинулся назад, сражаясь с волной боли.
— И какой в этом смысл? — выдохнул он.
— Дело в том, что нельзя есть этих монстров, но люди постоянно их ловят. И это означает, что они живы. Плавают в реках, и так далее.
Он глубоко вдохнул, подержал дым в оставшемся легком, чтобы максимизировать эффект. Я ждал пару ударов сердца, но он ничего больше не сказал.
— Вот, что они используют в гиперускорении, — сказал я ему. — Это быстрая
техника, так же, как были созданы эти сомы. Например, пять тысяч человек с раком, и вы бомбите их всех мега-дозой излучения. Гораздо более высокими дозами, чем здесь разрешено. Пациенты в медицинской коме — тело должно быть в покое, чтобы терпеть эти удары. И машины должны контролировать все, потому что главное не люди, а данные.

Девочка пережила надругательство. Психолог говорит ей, что есть волшебные камни, которые помогут избавиться от страха и победить в суде. Только нужно верить в магию камней. Непутевый отец, подслушав разговор, считает, что ему тоже нужна такая вера.

«Они выпустили меня в среду. Они вернули мне мои часы, одежду, в которую я был одет, когда я поступил, наличные, которые были у меня… Семьдесят семь долларов и немного мелочи. Я был единственным белым парнем в очереди домой».

«В Групповом доме были плохие дети, как я, на пути из колонии. Приходилось жить там, пока они не разрешали тебе уйти в реальный мир. Но там также были и другие дети, дети, которые ничего плохого не совершили, но их там заперли, потому что никто не хотел их. Там был такой Родни…».

«…Шон не мог решиться. Его любимые кроссовки не изменят его статус, лежа в шкафу, но если он выйдет в них… это рискованно. Трущобы были полны бродячих банд. Они бы забрали вашу одежду через секунду, оставив вас истекать кровью на земле, если бы вы пытались их остановить. Школа была рядом, но это была бы длинная, длинная прогулка».

Маньяками, как известно, не рождаются. Димон – по прозвищу Конопатый – уж никак не предполагал, что впишется в их число. Но… жизнь заставила. А что еще прикажете делать, если лучший друг закапывает тебя живым в могилу? Поневоле воскреснешь из мертвых, чтобы отомстить всем живым. И Конопатый начинает мстить – хладнокровно убивать всех, кто встает на его пути…
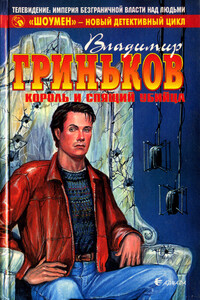
Роман «Король и спящий убийца» продолжает цикл остросюжетных произведений известного автора детективного жанра В. Гринькова «Шоумен».После долгого перерыва, связанного с гибелью режиссера Самсонова, решено возобновить популярную передачу «Вот так история!». Творческая группа, которой теперь руководит Евгений Колодин, достигла столь высокого мастерства, что снимаемые ею сюжеты… становятся опасными не только для героев передач, но и для самих журналистов.

К московскому антиквару обращается неизвестный с просьбой оценить статуэтку пуделя работы Карла Фаберже… Потом этот же тип в Париже уточняет возможность продажи коллекции из десяти собачек Фаберже.Получив эту информацию, детективное агентство «Сова» начинает расследование… Выясняется, что в среде антикваров есть легенда о купце Собакине, который до революции для своей невесты ежегодно заказывал у Фаберже ювелирные статуэтки собачек… Коллекцию никто не видел, а после Великого Октября ее следы вообще затерялись.«Сова» выясняет, что недавно умер сын купца – академик Трофим Собакин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
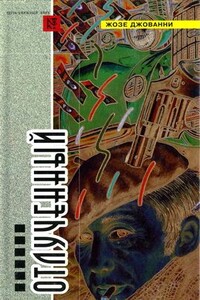
Герои романов Жозе Джованни – одиночки, отверженные всеми, зачастую жестокие и мстительные: 25-летний гангстер, силой и смелостью заставивший уважать себя в преступной среде, стареющий вожак уголовников, бежавший из тюрьмы, водитель бандитской группировки, спасающийся от преследования полиции…Рано или поздно они оказываются в безвыходной ситуации. Как они будут драться за свою жизнь? Способны ли они бросить вызов смерти, когда шансов на выживание уже почти что нет?