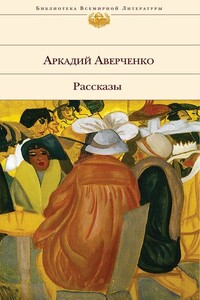Лишь один раз сценарий таких вот званых обедов был поломан.
Один из самых дорогих загородных ресторанов снял для всей нашей братии какой-то берлинский русский. Сидел он во главе стола, весь обвешанный золотом, и блестел, как витрина ювелирного магазина перед новогодней распродажей. Был он молчалив и угрюм, казалось, будто он однажды ушел в себя и никак не может оттуда вернутся, так там и живет. Руки его еле двигались по столу, с трудом управляясь с едой, поскольку перстни, браслеты и часы из всех видов золота самим своим весом не давали ему производить обыденные движения. Цепи обвивали шею, как толстый зимний шарф, и своей верижной тяжестью то и дело заставляли его сгибаться в недвусмысленную позу.
Было ему тяжело, ел он только сырое мясо и пил только водку, разбавленную шотландским виски. На нас и наши сверхфантастические заказы он по обращал никакого внимания, словно это его совсем не касалось, словно не ему предстояло платить по счету.
Я надеялся, что он очнется, когда увидит счет. «И не такие валились с ног и превращались в эпилептиков, когда приходило время платить», – почему-то злорадно думал я. Но он, бросив хозяину ресторана кредитную карточку величиной с приличный золотой поднос, зашаркал к двери, при каждом шаге позвякивая и побрякивая дорогим металлом.
А мы настолько разочаровались в наших ожиданиях, что с расстройства даже не стали захватывать из ресторана сувениров в виде пепельниц, ваз и жен французских меценатов.
Вообще-то Франция радовалась нашему приезду все время, пока мы там были: светило солнце, на набережной нас рисовали художники, для нас играли шарманки и аккордеоны. Женщины – почти все – были влюблены в моего друга, подруги этих женщин – в меня.
Бывали и неожиданные встречи, тоже с соотечественниками.
Как-то раз на бульваре навстречу нам бросился мужчина лет тридцати пяти, с длинными волосами и атлетической фигурой, и стал по очереди заключать в объятья то моего друга, то меня. Потом последовала краткая, но обстоятельная беседа:
– Ну, как вы?
– Да ничего, а ты как?
– Да тоже ничего.
На этом мы расстались. На мой немой вопрос другу «Кто это?» – он вслух ответил: «Моя тень». И вправду, куда бы мы с ним после этого не приезжали, будь то Париж, Берлин, Нью-Йорк или Токио, мы непременно встречали этого волосатого человека, и всегда повторялся тот же обстоятельный диалог:
– Ну, как вы?
– Ничего, а ты как?
– Да тоже ничего.
И мы вновь расходились в разные стороны. Интересно, что в России я его ни разу не встречал.
Что двигало этим человеком, перемещающимся за моим другом по всему белу свету? И неужели лишь затем, чтобы поинтересоваться, как он чувствует себя за границей? Какая преданность таланту!
Однажды я вслух прикинул, что будет, если ему ответить, будто дела идут плохо. Что он, бедный, сделает? И решил: наверное, будет спасать или денег даст.
– Нет, – ответил мне друг. – Сообщит куда надо, что у объекта дела пошли плохо, и поедет дальше, искать другого, с кем можно будет здороваться по всему миру.
По вечерам нам приходилось надевать смокинги и, перевоплотясь в пингвинов, идти на обязательные встречи, просмотры, фуршеты. Без смокинга в этих Каннах просто не бывает светской жизни. Но некоторые представители братского теперь Запада пытались прошмыгнуть на обязательные просмотры в простых костюмах и галстуках, экономили на смокингах и «бабочках». Пытаться-то они пытались, но ничего не получалось – полиция их отлавливала и разворачивала назад – строго у них там, на фестивале, насчет смокингов, даже на фестиваль порнофильмов все шли не голышом, а в смокингах, и хотя при порно смокинг вроде бы ни к чему, ан нет – напяливай и иди.
Американцы, правда, ломали всю картину. Таких, как Де Ниро, Аль Пачино, Шварценеггер, пропускали хоть и пижамах, хоть в мятых пиджаках на голое тело. А полицейские, вместо того, чтобы их отлавливать, даже честь им отдавали. Но я не думаю о полицейских ничего плохого. Это, наверное, у них от гостеприимства: полицейские же европейцы, а те – американцы.
В Ницце, например, когда улетал Клинт Иствуд, перекрыли от людей весь аэропорт. Нам объяснили, что он публики стесняется, и я, сочувственно наблюдая с улицы за этим стеснительным американцем через витринное стекло, очень гордился, что ни один мой земляк не стесняется американцев, когда оказывается у них в Америке.
Но рано ли, поздно ли все хорошее кончается. Вот и эти майские дни закончились как-то вдруг, неожиданно и быстро. Как, впрочем, и сам Каннский кинофестиваль.
Когда мы уезжали, китайцы молчали, французы грустили, американцы просто ничего вокруг не замечали, ну, а некоторые из нас украдкой плакали.
Утренний Марсель простился с нами так же, как и встретил: свежим мелким дождиком.
А сама Франция провожала нас вечером парадом серых ушастых кроликов, весело прыгавших по взлетным полосам аэропорта имени Шарля де Голля.