Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [47]
Мы видели, что в «подпольных» областях своего творчества Пруст прибегает к решениям Достоевского, — и увидим, что в менее «подпольных» областях своего Достоевский прибегает к решениям Пруста[211].
Таким образом, наряду с рассмотрением влияния Достоевского на Пруста, по убеждению Жирара, вполне возможно говорить о том, что «уместно было бы обозначить как „прустовский откос“ творчества Достоевского»[212]. Для Жирара важна не диахроническая последовательность в литературном процессе, а взаимное взаимодействие элементов единого интертекстуального пространства в момент, совпадающий со временем его восприятия.
Безусловно, во всех отмеченных работах, как и во многих других, присутствуют интересные наблюдения. Вместе с тем в них часто проявляется одна из основных проблем в сопоставлении творчества Пруста и Достоевского. Сложность этой компаративистской операции заключается в том, что при ее решении следует учитывать многослойное соотношение творческих и идейных позиций Достоевского, Пруста и того, кто их сопоставляет. Приоритет здесь, бесспорно, за позицией Пруста. От того, насколько она учитывается, насколько далеко уходит от нее исследователь, зависит успех сопоставления. При этом важно сознавать, что отдельные, как кажется на первый взгляд, разрозненные высказывания Пруста о русском писателе, разбросанные по разным текстам, имеют общую концептуальную основу, точно так же, как все его художественное творчество, начиная с ранних текстов сборника «Утехи и дни», имеет единое мировоззренческое основание.
Сам Пруст всегда очень бережно и осторожно относился к трактовке творчества Достоевского. В «Пленнице» автор заявляет: «Меня раздражает торжественная манера, в какой говорят и пишут о Достоевском»; добавляя, что сам плохо знает его творчество[213]. По этой причине он отказал в свое время Ж. Ривьеру, который просил его написать о Достоевском для журнала «Новое французское обозрение». Однако при всем том Пруст чувствовал Достоевского лучше многих.
Кажущаяся незначительность приведенных ранее примеров, иллюстрирующих понятие «новая красота» у Достоевского, обманчива. Прустовское понимание художественного наследия русского писателя основывается на его представлениях о сущности и о смысле творчества. В полной мере значение слов «новая красота» по отношению к произведениям Достоевского раскрывается в контексте рассуждений Пруста об искусстве. Один из признаков истинного искусства для него — это своеобразный изоморфизм на уровне композиции, проявляющийся в повторяемости фрагментов, персонажей, образов, деталей. «Великие писатели, — говорит Пруст, — создавали всегда только одно произведение или, вернее, преломляли в различной среде одну и ту же красоту, которую они вносили в мир»[214]. Так, Вагнер, создав на основании одного фрагмента оперную тетралогию, должен был испытать восторг, подобный тому, который, очевидно, охватил Бальзака, когда тот понял, что «его книги станут еще прекраснее, если их объединить в один цикл, где персонажи будут появляться снова и снова»[215]. Этот восторг Пруст объясняет тем, что речь в данном случае идет о единстве, которое родилось «по вдохновению, а не по искусственному требованию определенного тезиса»[216]. Воплощением такого рода творческого порыва в романе Пруста становятся однотипные музыкальные фразы его персонажа — композитора Вентейля, которые автор сравнивает с «геометрией каменотеса»[217] в романах Т. Гарди, проявляющейся через повторение описаний каменных глыб, с «ощущением высоты» у Стендаля, «связанным с духовной жизнью»[218] и реализующимся через повторение сходных образов: «возвышенности, где Жюльен Сорель находится в заключении; башни, наверху которой заперт Фабриций; колокольни, где аббат Бланес занимается астрологией и откуда Фабрицию открывается чудный вид»[219].
Во всех указанных случаях Пруст говорит об изоморфности искусства истинного художника, обусловленной причинами особого рода. Назойливое повторение внешне дискретно расположенных фрагментов, деталей для Пруста — свидетельство наличия глубинного жизненного тока, отличающегося постоянством и связанного с бытием «внутреннего я» художника. Важно, что проявление его, однако, постоянно «прерывается» вторжением «внешнего» существования, приобретает форму «intermittences du Coeur». Настойчиво снова и снова возникающие фрагменты одной художественной системы — знаки, которые указывают на присутствие этой внутренней реальности, имплицитно выводят нас к ней.
«У Достоевского, — пишет Пруст, — я нахожу неимоверно глубокие колодцы, правда, в обособленных участках человеческой души.[…]»[220] (chez Dostoïevsky je trouve des puits excessivement profonds, mais sur quelques points isolés de l’ âme humaine[221]). Провалы в «неимоверно глубокие колодцы человеческой души», — глубины бытия, зияния, обнаруживающие глубинную первооснову существования, — вот чем привлекает Достоевский Пруста. Отсюда его интерес к метасюжетным, метаповествовательным моментам в творчестве русского писателя, внимание к деталям, фрагментам общего, через которые выказывает себя универсальное, вневременное (к «композиции», как это называет Пруст). Достоевский привлекает Пруста как автор, сознающий наличие внутреннего потока жизни, ощущающий так же, как и сам французский писатель, свою причастность к нему.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
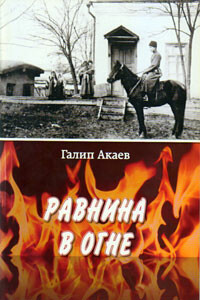
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.