Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей - [5]
Таких людей, каким был Абрам Захарович, в общежитии принято считать чудаками (...)
(...) К вопросам нравственной чистоты, морали и особенно ко всему, что касалось справедливости личной и общественной, он был болезненно чуток, отсюда его страстность в полемике с представителями ВАППа.
...В личной жизни Абрам Захарович был человеком тонкой и деликатной души. К своим соратникам по "Перевалу" он относился с большой нежностью, любовью и доверчивостью. Наибольшей дружбой Лежнев был связан с Воронским и, быть может, еще теснее с Дмитрием Александровичем Горбовым..."29
Дмитрий Александрович Горбов (1894 - 1967) вошел в "Перевал", вероятно, одновременно с А. Лежневым.
Его литературная деятельность началась в 1918 году, сразу же по окончании (1917) Императорского Московского университета (историко-филологический факультет). Мы о ней почти ничего еще не знаем. В "Перевале" он был теоретиком, которого, как он говорил, интере[15]совало не только то, что нужно писателю, но что нужно писателю именно как художнику. Его многочисленные критические статьи, особенно по вопросам эстетики, всегда вызывали споры. Сам же он до конца дней гордился отзывом М. Горького о его книге 1928 года "У нас и за рубежом", в котором писатель оценил его статью о белоэмигрантской литературе (на сегодняшний взгляд, жесткую и не совсем справедливую) как объективную и обоснованную30.
"Не в пример Лежневу и Воронскому, - вспоминал Г. Глинка, - которые, каждый в своем роде, были монолитны, Горбов не был цельной натурой. Характер его состоял из, казалось бы, несовместимых противоречий. Сарказм уживался у него с тончайшим лиризмом, типичные навыки кабинетного исследователя с большим опытом практической жизни, боевой заряд с осмотрительностью. Прямота и смелость суждений соединялись с уменьем прекрасно ладить с людьми, которые совершенно не разделяли его убеждений. (".) В "Перевале" Горбов был самым верным другом А. К. Воронского, любил и всячески опекал Лежнева. С живым интересом относился он к творчеству Ивана Катаева, ценил некоторых перевальских поэтов, но в своих суждениях об остальных художниках "Перевала" был настроен все же весьма скептически. (...)
Горбов не мог оправдывать неудачные и слабые произведения только потому, что авторы их были его соратниками по "Перевалу"31.
Имя Ивана Катаева (1902 - 1937) по праву попало в ряд ведущих перевальцев. Закончив гимназию, он семнадцатилетним юношей ушел в Красную Армию. "8-я армия, - вспоминала позднее его жена, поэтесса М. Терентьева, - стала для него вторым родным домом. Здесь, в армии, вступил он в 1919 году в партию коммунистов. Мечтал отдать жизнь за торжество великих идей32. В армии он расследовал дела о незаконных реквизициях, разбирал уголовные дела. Там же он начал печатать статьи и стихи в армейской газете "Красный [16] труд". Началом своей литературной работы он считал 1921 год.
В середине 20-х годов Катаев поступил на факультет общественных наук в МГУ, работая с 1925 года ответственным секретарем журнала "Город и деревня" (журнал занимался вопросами кооперации). В эти же годы по поручению журнала "Красная новь" он работает над литературно-критической статьей "Тема гуманизма в творчестве Барбюса, Роллана, Горького"33. Статья напечатана не была, но глубина интереса Катаева к сущности гуманизма проявилась и в его повестях "Сердце"(1923) и "Молоко" (1930), и в его общей позиции как теоретика "Перевала".
"(...) С чем войдет... наше поколение в завоеванную с таким трудом и с такими жертвами обетованную землю, каким переступит ее границу? - писал от лица романтиков И. Катаев. - Нам ответят, что оно готовит для этого жданного мига множество серых стеклобетонных зданий с блестящими и умными машинами и миллионы гектаров тучной, сообща обработанной земли, откуда обильным потоком хлынут тепло, голубой свет, пища, одежда для всех живущих. И всего этого будет больше, и все это будет лучше, чем когда-либо в мире, и все будет принадлежать всем. Оно готовит также зеленые города-сады, больницы и дома детей с изразцовыми полами, сверкающе-чистыми, как лед, воздушные аппараты, для того чтобы в несколько часов пересекать огромные пространства и видеть их сверху, университеты и библиотеки, куда под вольные прохладные своды могут приходить все. И все сонмы людей вступят на эту землю грамотными, трезвыми, умными, трудолюбивыми, научившимися беречь свое стройное тело, - свободные от чувства низменной собственности, национальной ненависти, семейной кабалы. Войдут рабочие, утратившие свинцовую серость лица и воспаленность глаз, земледельцы, потерявшие свой дикарский облик, кровавые мозоли и глазомер крота, ученые, не знающие рабской трусливости мысли и вялости мускулов, женщины, забывшие о всепоглощающей суете квартирного мирка, об отчаянии бездомного материнства, о грубой власти хозяина-обладателя. Всех их встретит жизнь - просторная, изобиль[17]ная, чистая, насыщенная организованностью и мыслью"34.
Картина утопического будущего, которую рисовал И. Катаев, нужна была, в сущности, для того, чтобы понять: какой человек необходим революции? И каким должно быть искусство революции?
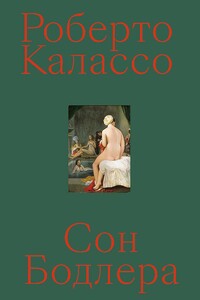
В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.
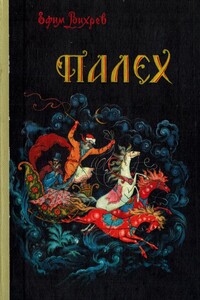
Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.
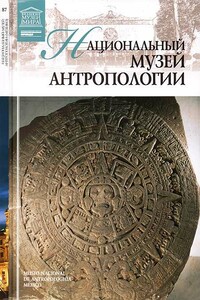
Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.