Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей - [2]
Организованный вначале как группа революционной молодежи, для которой главной была "установка скорее на массовость, чем на писательскую квалификацию"5, "Перевал" с приходом критиков все более стал осознавать себя как школа-направление, объединенная общей философией искусства6: одинаковым взглядом на цели, [6] место, характер искусства, одинаковым чувствованием его пафоса. Критика стала выражением самосознания группы. Критики стали ее совестью. Они-то и являются главными персонажами нашей книги.
Наиболее полным состав "Перевала" был в 1926 году, когда кроме названных критиков в него входили и писатели: И. Катаев, Н. Зарудин, Б. Губер, М. Пришвин. С. Малашкин, Э. Багрицкий, Н. Огнев, М. Голодный, И. Касаткин, Д. Алтаузен, В. Ветров, Д. Кедрин, А. Караваева, А. Пришелец и др. Потом были люди, которые оставили "Перевал", не выдержав гонений. Но многие - И. Катаев, Н. Зарудин, Д. Горбов, А. Лежнев и др. - остались верными ему до конца, а конец был в трагическом, опасном 1936 году.
Перевальцы воспринимали революцию как новый Ренессанс. В их глазах революция должна была стать интенсивным духовным движением, охватывающим "всю общественность и весь внутренний мир человека"7. Ставя вопрос о глубоком проникновении революции в "поры" человека, они хотели решить вопрос о сущности и судьбах революции, полагая, что те, кто рассматривают революцию только как "переворот политический и экономический", познают ее видимость, а не сущность, "ибо политическая сторона революции, оторванная от ее культурного содержания, не подкрепленная им, есть видимость революции, не больше"8.
В основном молодые перевальские писатели представляли собою поколение, которое, как писал А. Лежнев в 1925 году9, было выдвинуто вторым периодом революции, то есть тем временем, когда гражданская война оставалась позади и наступал новый период - период становления революционного государства. Рожденный революцией строй вступил в полосу своего самоопределения. И перевальцы в своем мироощущении несли это [7] чувство переходности своего времени как его отличительную мету.
Оглядываясь назад, возвращаясь к истокам возникновения группы, перевальцы говорили, что они "назвались "Перевалом" потому, что знали, как труден путь, уготованный веком искусству, рожденному под гром пушек..."10. Не претендуя на абсолютное выражение своего времени, перевальцы ощущали себя "только застрельщиками, пионерами новой эпохи"11. И действительно, "Перевал" возник в то время, когда наступил период самосознания нового общества, когда сталкивались различные эстетические системы и когда еще не был совершен выбор времени в пользу одной из них.
Формировались не только бытие нового общества, но и его духовные институты. Подвижностью, незавершенностью, пафосом созидания была отмечена и философия искусства. "Наше время, - писал Н. Зарудин, - быть может, время ученичества нового искусства, нового культурного пафоса?"12 Ученичество осложнялось тем, что взрослеть приходилось ускоренно и в обстановке, обостряющей мысль.
С годами стало ясно, что в перевальской критике есть своя эстетическая система, свои общие постулаты, объясняющие множество конкретных оценок. Перевальцы острее других чувствовали неполноту представлений пролетарских писателей об эстетических отношениях художника с миром действительности, искажение вопроса о творческой личности в теориях рапповской и лефовской критики, упрощенность трактовки вопросов о задачах искусства, об объективном смысле художественного образа, о связи мировоззрения и творчества.
Это были спорные вопросы. Вокруг них бушевали страсти. Все было в брожении. Поэтому полемическая форма была способом существования идеи, и не случайно книга А. Лежнева "Разговор в сердцах" была построена большей частью в форме диалогов с воображаемым оппонентом, доклад Д. Горбова "Поиски Галатеи" представлял собою диалог с ВАППом, а книга А. Воронского "Мистер Бритлинг пьет чашу до дна" облекала разногласия в сатирические формы фельетона и памфлета. [8]
Полемический способ существования мысли обусловил не только остроту перевальской позиции и ее подспудную ориентированность на спор и возражения, но и породил гипертрофию ее отдельных сторон, ее внутреннюю несоразмерность, порой разрастание деталей и частностей.
Но перевальцы были разными.
...В автобиографической книге "За живой и мертвой водой" Александр Константинович Воронский (1884 - 1937) с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Фельетон, написанный голодным подпольщиком (1911), неожиданная удача (напечатали!), потом знакомство с В. В. Воровским, который редактировал тогда в Одессе газету "Ясная заря", и вновь фельетоны, но теперь уже вперемежку с заметками "о Горьком, об Аверченко, о Леониде Андрееве, о местной кооперативной жизни, о расценках, о бытовых условиях жизни рабочих"13. Все это рождено было "острой нуждой", и к своим успехам "на литературном поприще" автор относился как к незаслуженной обмолвке судьбы.
Но оказалось, что все это было не случайно. И когда в 1918 году Воронский стал участвовать в редактировании Иваново-Вознесенской губернской газеты "Рабочий край" (вскоре возглавив ее), за ним стоял уже опыт не только партийной, но и публицистической работы. Литературное же призвание обнаружило себя в интенсивности, с какой начал писать Воронский свои "литературные заметки", а также в диапазоне тем, которые волновали неизвестного еще читателю критика. За годы деятельности Воронского в "Рабочем крае", как установлено, им было опубликовано "свыше 370 статей, рецензий, заметок, фельетонов и других материалов, не считая неподписанных передовиц"14. Из них более пятидесяти работ было написано на литературные темы.
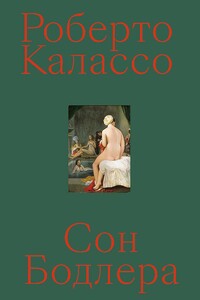
В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.
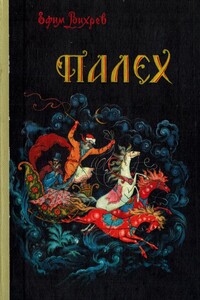
Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.
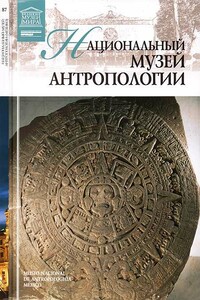
Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.