Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей - [4]
"Отношение Воронского к "Перевалу", - как свидетельствует Г. Глинка, - с самой его организации было всегда осторожным, и тут тоже чувствовалась некоторая дистанция. Воронский постоянно всем своим поведением [12] как бы подчеркивал, что никакого давления на перевальские решения оказывать не собирается и предоставляет перевальцам ту же свободу мыслить и действовать на свой страх и риск, каковой пользуется он сам"24.
Но между Воронским и перевальцами сразу же установились прочные личностные и профессиональные отношения. Их притягивали его внутренняя честность, врожденная интеллигентность, вкус. Многие остались рядом навсегда. Таким был, например, критик Абрам Захарович Лежнев (1893 - 1938).
А. Лежнев начал свою литературную работу в 1922 году - мелкими рецензиями, отзывами, литературными заметками. Но тогда же им была написана и большая статья "Левое" искусство и его социальный смысл". Не опубликованная в свое время, вошедшая позднее в книгу "Литературные будни", она ретроспективно свидетельствует о критическом отношении молодого автора к "лабораторному" искусству и о его способности ставить серьезные общеэстетические проблемы.
Видимо, в развитие затронутых в этой статье идей в 1923 году Лежневым была написана новая работа - статья "Леф и его теоретическое обоснование". "Я вовсе не собираюсь отрицать "левый фронт", - писал Лежнев. - ...Я просто стараюсь выяснить ценность этого "левого фронта" для пролетариата"25.
Те же критерии оценки искусства читатель встречал и в статье Лежнева "Пролеткульт и пролетарское искусство", где эстетическая концепция Пролеткульта рассматривалась с точки зрения задач "культурного подъема пролетариата"26. Это уже была позиция. Именно она, вероятно, сделала возможным привлечение молодого критика к работе в "Правде" - в течение 1924 года Лежнев печатался в ней много раз. С того же года его статьи и рецензии регулярно появляются в журналах "Красная новь" и "Печать и революция"; в последнем он становится постоянным литературным обозревателем, часто появляясь на страницах одного и того же номера журнала [13] дважды и трижды - как автор не только "литературных обзоров", но и статей и рецензий. Материалы Лежнева появляются и в журналах "Коммунист", "Красная молодежь", "Сибирские огни", "Прожектор", позднее - "Новый мир", "Красная нива" и др.
Но зачем так много? - может спросить современный читатель. "Надо читателя ориентировать - и ориентировать немедленно, - считал Лежнев, - в многообразной массе художественной продукции. Надо выяснить общественный смысл и ценность быстро выбрасываемых на рынок произведений. Надо улавливать и отмечать едва пробивающиеся тенденции развития"27.
Какое-то время частые публикации материалов А. Лежнева в журналах "Красная Новь" и "Прожектор", руководимых Воронским, казались случайными. Одобрительная заметка о программной статье Воронского "Искусство как познание жизни и современность" затерялась среди других материалов Лежнева в "Правде" 1924 года. В хрестоматии 1925 года "Современная русская критика", где представлены критики разных направлений, его работ нет. Но прошел год, и в том же номере журнала "На литературном посту" (1926, No 3), где Воронскому ставилось в вину употребление понятия "художественная литература" "вообще" (что было приравнено к абстрактным эстетическим критериям), появилась рецензия на первую книгу А. Лежнева "Вопросы литературы и критики" (1926), где Воронский был назван "старшим собратом" Лежнева. Тем самым факт частых публикаций Лежнева на страницах "Красной нови" потерял оттенок нейтральности.
В 1926 году Лежнев вступил в "Перевал"У
Особое сочувствие у критика вызывало стремление перевальских писателей к повышению своей художественной культуры. В рецензии на пятый сборник "Перевала" (1927) критик писал: "...несмотря на некоторые дефекты в подборе материала (стихи), в целом художественный материал "Перевала" добротен, обнаруживает работу писателя над собой и верное продвижение вперед"28.
Все это, несомненно, импонировало Лежневу. Он хо[14]тел посильно помочь группе писателей, стоявшей на близких ему позициях.
Начав свою деятельность в "Перевале" с участия в его литературных боях, Лежнев вскоре стал его ведущим теоретиком, направив свои усилия на создание философии искусства, соответствующего новому революционному обществу. Это сочетание эстетики, критики и теории сформировало в лице Лежнева особый тип деятеля, характерный для лучших представителей советской критики: его отклик на вопросы текущей литературной жизни всегда опирался на законченные и цельные эстетические представления, а эстетические оценки, в свою очередь, были укоренены в реальной литературной ситуации.
"Лежнев, - вспоминал Г. Глинка, - несомненно принадлежал к вымирающей ныне категории людей с больной совестью, для которых в вопросах добра и зла не существовало никаких компромиссов и полутонов.
Выглядел он значительно старше своих лет. Низкорослый, с болезненно бледным цветом лица, с голым, лишь слегка обрамленным венчиком седеющих волос, угловатым черепом. Глаза темные, в которых чувствовался быстрый, острый ум и в то же время какая-то девичья стыдливая страстность.
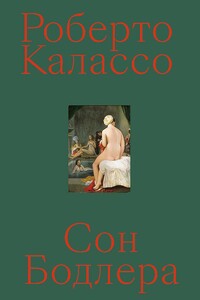
В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.
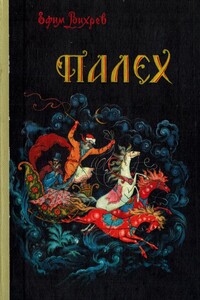
Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.
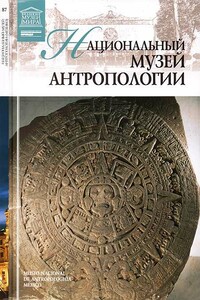
Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.