Дневник эфемерной жизни (Кагэро никки) - [38]
- Отец отослал меня. Он сказал, чтобы я приехал к нему, когда он позовет. Он уехал.
Мне стало его очень жаль, и, чтобы успокоить сына, я сказала ему:
- Совсем отец выжил из ума! Дело-то не должно дойти до того, чтобы он отказывался даже от тебя.
Было около двух часов ночи. Дорога предстояла очень дальняя.
Мои спутницы переговаривались между собой о том, что сопровождающих, которых Канэиэ брал с собой сюда, было значительно меньше по сравнению с той свитой, которая сопровождала его в столице. За разговорами прошла ночь.
У меня были два дела, по которым следовало отдать распоряжения в столице, и я отправила туда посыльного. Я передала для Канэиэ письмо с сыном - он уже был в чине таю[42] - после того, как он сказал мне, что его очень беспокоит состояние отца после прошедшей ночи и он хочет доехать до усадьбы отца и справиться о его самочувствии.
«Я все думала о твоем странном и диком приезде ко мне глубокой ночью, - писала я, - и молила будд о твоем благополучном возвращении домой. Когда я задумываюсь о причинах, которые побудили тебя ехать в тот горный храм, мне становится совестно и пропадает желание возвращаться домой». В конце этого письма, написанного мелким почерком, я добавила: «Я смотрела из экипажа на ту дорогу, которой мы когда-то любовались вместе, и одолели меня ни с чем не сравнимые воспоминания. А теперь я немедленно возвращаюсь». Письмо я послала, прикрепив его к замшелой ветке сосны.
С рассветом поднялась не то мгла, не то туча, на сердце стало грустно. Около полудня мой посланец возвратился домой:
- Отец куда-то уехал, поэтому письмо я передал тамошним мужчинам.
Как бы там ни было, я считала, что ответа все равно не будет.
И так, дни напролет я проводила в обычных хлопотах, а ночи - в молитвах перед главной статуей Будды. Поскольку местность эта со всех сторон окружена горами, у меня даже днем не было опасения, что кто-то меня увидит. Шторы у меня были закатаны вверх, когда на торчащем кверху сухом сучке запел пролетный соловей. Мне послышалась только трель: «Кто-идет-кто-идет», - и я подумала, что шторы надо опустить. Должно быть, у меня совсем не было самообладания.
Вскоре я стала думать, что избавилась от нечистоты, которая была во мне. Следовало возвращаться домой, однако в столице за это время распространилась молва, будто я изменила облик и приняла постриг. Я подумала, что возвращаться как-то нехорошо, и поселилась в доме на некотором удалении от храма.
Из столицы навестить меня приехала моя тетя.
- Жилище очень необычное, - сказала она, - и не поддерживает душевного спокойствия.
Через пять или шесть дней шестая луна стала совершенно круглой[43].
В тени деревьев было очень приятно. Если посмотреть в места, покрытые тенью от горы, становится удивительно, как там сияют светлячки. Кукушка, на которую я когда-то давно, у себя в усадьбе, когда еще ничем не была озабочена, рассердилась однажды: «Чтоб я не слышала тебя в другой раз!» - теперь вовсю куковала. Совсем рядом громко захлопал крыльями болотный пастушок... Проживание здесь вызывало во мне глубокие душевные движения.
Я сама, а не кто-то другой, назначила себе затворничество, и поэтому, несмотря на то, что меня здесь не навещали, не грустила в одиночестве, даже в сновидениях; и чувствовала себя очень непринужденно. На меня навевала грустные мысли только попытка угадать будущее сына[44], который во всем разделял со мной подобную жизнь, когда он день за днем проводил это долгое воздержание; мне больше не на кого было положиться, не было человека, с которым мне по обету позволялось бы видеться, поэтому я даже голову наружу не показывала и думала, что буду питаться одними только сосновыми иглами. Но всякий раз, когда я видела, что сын не может есть их наравне со мною, обливалась слезами.
Так мало-помалу на душе у меня стало немного легче, и одно меня сильно огорчало - то, что я часто плакала. Вечерами сюда доносились и предзакатное гудение больших колоколов, и звон цикад, и мелкие удары малых колоколов с окрестных небольших храмов, как бы твердивших: «А-вот-и-я-, а-вот-и-я», - а на холме напротив находилось синтоистское святилище, и когда я слушала, как монахи читают сутры, меня охватывало унылое настроение и желание ничего не делать.
Однажды, когда у меня была месячная нечистота и оставалось свободное время и ночью и днем, я вышла на веранду. Ребенок мой, увидев меня, воскликнул:
- Заходи, заходи! - Должно быть, он глубоко не задумывался над моими обстоятельствами.
- Что случилось?
- Да так, все очень плохо, - ответил мальчик, - все время хочется спать.
- Я было подумала, что мне лучше сразу умереть. Но как это отразится на тебе? Или поступить, как обо мне судачат в мире - стать монахиней? Чем совсем исчезать из мира, лучше уж так поступить. И когда ты станешь волноваться обо мне, когда загрустишь, - приходи, увидимся. Думаю, что я и сама неправильно поступила, приехав сюда, но когда я вижу, как ты здесь исхудал, делаюсь сама не своя. Иногда я думаю: хорошо бы мне, приняв постриг, обратиться с просьбой заботиться о тебе к твоему отцу, оставшемуся в столице, но я вижу, что он человек ненадежный, и все думаю - и так, и этак.

Настоящее издание представляет собой первый русский перевод одного из старейших памятников старояпонской литературы. «Дневник эфемерной жизни» был создан на заре японской художественной прозы. Он описывает события личной жизни, чувства и размышления знатной японки XI века, известной под именем Митицуна-но хаха (Мать Митицуна). Двадцать один год ее жизни — с 954 по 974 г. — проходит перед глазами читателя. Любовь к мужу и ревность к соперницам, светские развлечения и тоскливое одиночество, подрастающий сын и забота о его будущности — эти и подобные им темы не теряют своей актуальности во все времена.
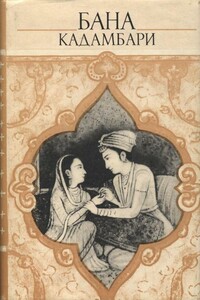
«Кадамбари» Баны (VII в. н. э.) — выдающийся памятник древнеиндийской литературы, признаваемый в индийской традиции лучшим произведением санскритской прозы. Роман переведен на русский язык впервые. К переводу приложена статья, в которой подробно рассмотрены история санскритского романа, его специфика и место в мировой литературе, а также принципы санскритской поэтики, дающие ключ к адекватному пониманию и оценке содержания и стилистики «Кадамбари».

В сборник вошли новеллы III–VI вв. Тематика их разнообразна: народный анекдот, старинные предания, фантастический эпизод с участием небожителя, бытовая история и др. Новеллы отличаются богатством и оригинальностью сюжета и лаконизмом.
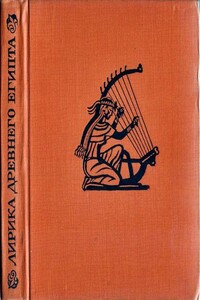
Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.
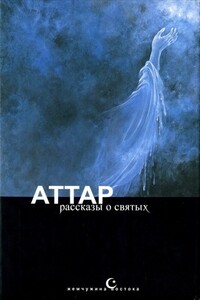
Аттар, звезда на духовном небосклоне Востока, родился и жил в Нишапуре (Иран). Он был посвящен в суфийское учение шейхом Мухд ад-дином, известным ученым из Багдада. Этот город в то время был самым важным центром суфизма и средоточием теологии, права, философии и литературы. Выбрав жизнь, заключенную в постоянном духовном поиске, Аттар стал аскетом и подверг себя тяжелым лишениям. За это он получил благословение, обрел высокий духовный опыт и научился входить в состояние экстаза; слава о нем распространилась повсюду.

В сборник вошли лучшие образцы вавилоно-ассирийской словесности: знаменитый "Эпос о Гильгамеше", сказание об Атрахасисе, эпическая поэма о Нергале и Эрешкигаль и другие поэмы. "Диалог двух влюбленных", "Разговор господина с рабом", "Вавилонская теодицея", "Сказка о ниппурском бедняке", заклинания-молитвы, заговоры, анналы, надписи, реляции ассирийских царей.

В сборнике представлены образцы распространенных на средневековом Арабском Востоке анонимных повестей и новелл, входящих в широко известный цикл «1001 ночь». Все включенные в сборник произведения переводятся не по каноническому тексту цикла, а по рукописным вариантам, имевшим хождение на Востоке.