Дитя да Винчи - [4]
— Пойдем навестим оперного певца.
Отец прошел сквозь горнило так называемой странной войны в звании лейтенанта Первого ударного батальона; средневековая удаль вкупе с безоглядной отвагой, присущей парашютистам, привели его на передовую — он был в числе тех, кто под командованием де Латра освобождал Эльзас, а потом занимал территорию Германии в районе озера Констанц. И потому для него было очень важно, чтобы его дети в рождественский пост навестили старого вояку, героя войны 1914 года, которому отец дал приют в нашем поместье — ниже замка, в домишке, обращенном окнами на сад. В обязанность отцов входит предлагать детям примеры для подражания, открывать им глаза на нелицеприятные стороны жизни, стараясь при этом не отвратить их от благопристойности. Провальная задача, ибо до каких границ позволено им дойти в раскрытии правды, зачастую страшной, и до каких пор сияющий ореол легенды способен скрывать житейскую грязь? Между этими двумя крайностями маятнику образования и надлежит выбирать наиболее правильный из углов движения.
Несмотря на скромность внутреннего убранства домика Господина Кларе, в нем чувствовалось некоторое величие. Память о траншеях не улетучилась бесследно из задымленного и захламленного жилья, где герой Вердена пытался, опираясь на палку, подняться с кресла навстречу герою кампании 1939–1945 годов, прибывшему в окружении детворы, столь же наивной, сколь и заинтригованной. И на этот раз отец не мог удержаться от того, чтобы попросить его поделиться с нами своими воспоминаниями о войне, а мне подумалось: поступал ли отец так, чтобы удовлетворить свое неутомимое любопытство к рассказам храбреца о способности человеческой натуры выживать в любых условиях, даже когда сам человек уже похоронен, или же он желал повторения этого рассказа из-за того примера, который его патетическая сила должна была на нас оказывать. Господин Кларе был рассказчиком хоть куда. Безупречно владея словом, приводя массу отвратительных подробностей, он успешно погружал вас в трясину трагедии, оставившей по себе имена миллионов французов, высеченные на памятниках павшим в деревнях. С его тонких губ срывались ужасающие детали, несмотря на невинное выражение голубых прозрачных глаз, он увлекал вас в шквал свинца и паров иприта. Под лавиной его слов мы и сами как бы переживали крещение огнем, вместе с пуалю[9] попадали в ад, увязали в топях Пикардии, созерцали перепаханные снарядами поля, над которыми поднимались ввечеру деревянные кресты, и кожей ощущали угрозу, разлитую в утреннем воздухе на Шмен-де-Дам[10]. Фердинан Кларе рассказывал нам о своей войне:
— Как-то пришлось нам с одним военврачом выносить раненого солдата. Немцы принялись обстреливать нас из укрытия, я тотчас лег на землю, военврач продолжал стоять, если б его убили, то стоя. А раненый крыл нас последними словами. Я никогда не видел, чтобы офицер бросился на землю, испугавшись обстрела. Все офицеры, которых убило на моих глазах, умирали стоя.
Слушая рассказы бывалого солдата, отец впадал в задумчивость. Будучи молодым лейтенантом, он тоже чуть было не остался лежать на поле боя. Одного из его солдат ранило по другую сторону стены, что защищала остатки войска. Он стонал, вот-вот должен был возобновиться огонь вражеской артиллерии. Ни один из молодцов взвода, что бы ему ни посулили, не согласился бы перемахнуть через стенку, чтобы помочь ему. И тогда отец, которого солдаты в грош не ставили, считая очкариком и парижским интеллигентиком, перепрыгнул через стену и ползком добрался до брошенного на произвол судьбы бедолаги. Ему удалось подтащить его к стене, и — о чудо! — в них не стреляли. С этого дня видавшая виды солдатня перестала смотреть свысока на зеленого паренька из хорошей семьи, правильно говорившего по-французски, потому как была поражена поступком, достойным уважения.
Перед тем как заглянуть на огонек к Господину Кларе, отец объяснил нам, кем тот был до войны, чтобы внушить нам уважение к нему и подготовить к состраданию, которое следовало проявить к несчастному, если мы, конечно, не были монстрами. Он хотел, чтобы мы поняли: герои не всегда были такими жалкими. Как и то, что есть худшее горе, чем смерть. Перед тем как навсегда утратить свой чарующий голос в газовой атаке Первой мировой, Господин Кларе был выдающимся оперным певцом, царем и богом миланской «Ла Скалы», блистал в «Ковент-Гардене», слава его простиралась от дворца Гарнье до Санкт-Петербурга. Изящество облика, доведенные до совершенства манеры в сочетании с атласным халатом и женой, похожей на сморщенное печеное яблоко, прогиб ноги которой тем не менее свидетельствовал о том, что она также была не чужда Терпсихоры — составляли разительный контраст с тем, о чем он рассказывал еще более усиливающимся от воспоминаний о золотом голосе и красных креслах партера.
Даже если в конце концов этот призрак и вышел живым из преисподней, он все равно принес в жертву неумолимому Молоху самое ценное, чем только обладает певец — голосовые связки, а значит, свою подлинную жизнь. Он не пал на поле боя за Францию, но превратился с тех пор в свидетеля собственного угасания. Его крестом стала память о навеки утраченном даре. Стоило Господину Кларе замолчать, начинал звучать тоненький фальцет его жены. Как многие подруги известных личностей, она все еще пела ему дифирамбы, дабы продлить милый сердцу шумок, сопровождающий славу. Она рассказывала, каким он был красавцем, как его боготворили женщины, и давала понять, что он не раз ей изменял, как будто это было доказательством его неотразимости. Легкая довольная улыбка трогала тогда губы ее мужа, вспоминавшего о победах, одержанных им в стане оперных певиц. Ему случалось забыться и даже пооткровенничать по поводу той или иной пышногрудой красотки, повышавших градус настроения публики, а потом и его собственный, но в более интимной обстановке. Эти рискованные экскурсы с эротическим уклоном, нежелательные для детских ушей, не были предусмотрены программой, и отцовское лицо периодически каменело. Господин Кларе был слишком тонким психологом, чтобы не заметить этого, и тотчас вновь заводил речь о боях.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
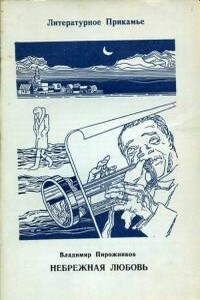
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
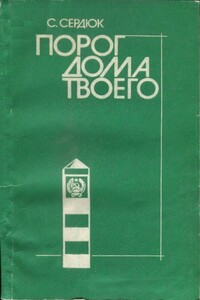
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.