Деревенский король Лир - [6]
– А вот у меня и камардин[5] свой, – весело указал мне на дурачка Чахра-барин.
– Кто он такой?
Дед замотал головой, тихонько хихикая себе в бороду.
– Благоприятель мой, – сказал он, понизив голос. – Сват еще приходится.
– Что же с ним?
– А вот оно что значит не до конца-то предела! – таинственно сообщил дед и, помолчав, продолжал: – Какой мужик-то был! Сила! Истинный крестьянин… Все жил дома, при земле, большину большую вел[6].. Двоим сыновьям фитанцы купил. Ну, думал, то ли в своем дому не король! Укрепил устой крепко, а сам в город поехал, думал там дворничать, да дело вышло незадашно… Через год обернулся в свое-то королевство, а ему сухую корку подали да за печкой угол показали (дед вытянул губы к самому моему уху). Баба его всю большину забрала… Было, слышь, где-то у него двадцать золотых припрятано – и тех не нашел!.. Благодарю создателя! Меня старуха баловала!.. Ионыч, ты бы, голубь, того… приостановил своим-то орудием промышлять… Чисто уж! – обратился Чахра-барин к дурачку с какою-то особенною сердечностью в голосе. – Вот и барин говорит, что будет, вполне достаточно… Праздник вполне!
– Что ж, по мне как хочешь, – сказал, шепелявя, грубым и серьезным голосом Ионыч. – Если хочешь, я еще подмету, а не хочешь – я и перестану.
Он говорил мало, отрывисто. Его особая глубокая серьезность, доходившая до сдержанного озлобления и презрения к другим, заставляла иных предполагать, что он «сам на себя напустил».
– Ты вот что, Ионыч… Ты того… не ходи ноне ко мне, на праздник-то… Потому тут дело всурьез, видишь, – заговорил Чахра-барин, отвернувшись к стороне от окон избы и от меня и копаясь в кармане под полой армяка. – Будет тут народ сурьезный… Вишь, барин… Пойдут над тобой смешки, того гляди… Ты вот лучше сам… На-ка тебе.
И дед сунул ему в руку медяк. Ионыч хладнокровно, взял монету и сказал: – Хорошо, я не приду ноне. Я после приду. Я в Грачево пойду, – и, собрав лопату, метлу и положив знамя с башмаком на плечо, широким, размашистым шагом пошел из села, сдвинув на затылок свою разукрашенную лоскутками шляпу.
– Ушел! – опять хихикнул дед. Он, видимо, был доволен.
– Юродивец вполне. Иной раз тоже заупрямится – ничем от него не отойдешь… А теперь ушел… Ушел доброхотно! – весело повторял он.
Вероятно, он считал это за хороший признак, так как вообще метение при каких-нибудь особенно торжественных случаях жизни считается в народе за дурную примету. А может быть, были и более глубокие причины.
IV
Мы вошли во двор. Как и самая изба, так и двор, и сенцы, и хлев, и сенница. и огород позади двора, – все было миниатюрно, бедно, дряхло, но, несмотря на то, все дышало жизнью, какой-то особенной жизнью, исключительно свойственною деревне. И в самом деле, какая сложная жизненная организация существовала на этом ничтожном, отмеренном мужицким «лаптем» клочке усадебной земли!
Солнце стояло как раз над сараем, но так как соломенная крыша последнего была покрыта бесчисленным множеством дыр и представляла из себя подобие полуободранного скелета или прорванного старого решета, то солнечные лучи в изобилии рассыпались в таинственном сыроватом полумраке двора и желтыми пятнами ложились на свежей соломе, скудно и жидко разбросанной на подстил. Там белые солнечные «зайчики» бегали по дырявым бревенчатым стенам, здесь два толстые луча, пробившись сквозь боковые отверстия, пересеклись и осветили темный угол, где лошадь, фыркая и переступая с ноги на ногу, время от времени матерински любезничала с жеребенком, облизывая его морду. В противоположном углу жалобно мычал теленок за загородкой, а новотельная корова, на правах родильницы занявшая самую середину сарая, флегматично отвечала ему легким мычанием. Две больных овцы, с обрезанными ушами и вставленными в них розовыми ленточками, вместо серег, не угнанные в стадо, терлись постоянно одна около другой, связанные узами какой-то непостижимой солидарности. Вверху, на подволоке[7], серая кошка вывела целую груду котят и беспокойно возится с ними, целый день перетаскивая их за шиворот из одного угла в другой. А еще выше, по застрехам и конькам крыши – воробьи, голуби и ласточки поселились своеобразными семьями и наполняли весь верх сенницы воркующими звуками. А эти воркующие звуки громким и восторженным криком покрывает петух, важно царящий над своим куриным царством. И наконец, как царь над всею этою бессловесною животиной, «венец творения» – старик Онуфрий, по прозвищу Чахра-барин, господствующий над целой «командой» больших и малых жизней, втиснутых в маленькое, низенькое, трех окон жилье, именуемое крестьянской избой.
В самом деле, до какой степени велика «жизнетворная деятельность природы», выражаясь языком старинных ученых! Как она плодовита! Не потому ли она так и расточительна, так и беззаботна к судьбе своих созданий? Только на одном этом ничтожном клочке земли, величиной в несколько квадратных мужицких лаптей, сколько горя, бедствий, напастей, борьбы и страданий придется перенести этой массе жизней, прежде чем немногим из них удастся совершить полный цикл органического прозябания или дойти «до конца предела», как говорит старый Чахра-барин.

«Лето я провел в одной деревеньке, верстах в двадцати от губернского города, значит – «на даче», как говорят в провинции, хотя вся дача моя заключалась в светелке, нанятой за три рубля во все лето у крестьянина Абрама....».

«Он шел изнеможенный и усталый, покрытый пылью. Путь его был долог, суров и утомителен. Впереди и позади его лежала желтая, высохшая, как камень, степь. Солнце палило ее горячими лучами, жгучий ветер, не освежая, носился и рвался по ней, перегоняя тучи сухого песку и пыли...».

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

«Когда я был еще студентом, Левитов занимал уже видное место среди молодых русских писателей. Тогда только что вышли его «Степные очерки» в двух маленьких красных книжках, в отдельном издании Генкеля…».

«Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготовляли материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян...».
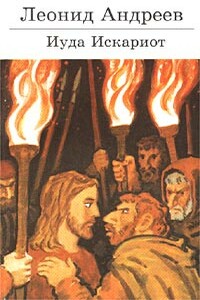
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
