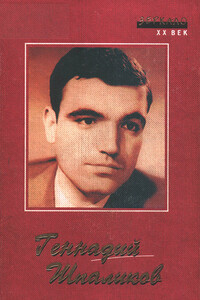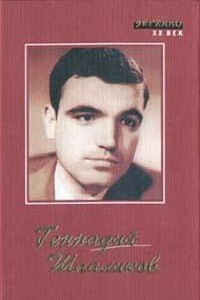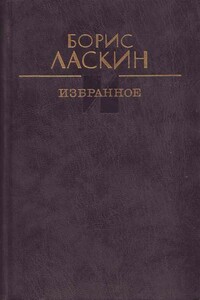— Перед памятью этой женщины, этого человека, которого я любил, я хочу сделать единственное, что я могу сделать, и уже не для нее, а для вас, но помня о ней и обращаясь к ней. Я спою любимый романс Александры Ивановны.
Все послушно расступились, и Андрей прошел к роялю, стоявшему в глубине комнаты, за которым все это время сидел пожилой человек, игравший Скрябина, Чайковского и еще многое.
Человек этот встал, ожидая, что скажет ему Андрей.
Андрей наклонился и что-то сказал ему.
Взгляды всех присутствующих и Веры в их числе были обращены к Андрею, но он — мягким и одновременно повелительным движением руки — заставил присутствующих повернуться к портрету тети. Повернулась и Вера.
Последовала пауза.
Наконец, первые аккорды — и Андрей запел. То, что он пел было само по себе, вне его исполнения, прекрасно.
Слова, которые он произносил, были начертаны не так уж давно, но все-таки давно, а действие их было безошибочным, они трогали не так, как трогают слова песни, а как трогает трагедия и талант.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
Андрей пел, и его мысли и взгляд были сосредоточены не на портрете тетушки, конечно, хотя все, кто был в этой комнате, поддались настроению этой песни и видели только это девичье лицо начала века, и ничего более, но Андрей смотрел только на волосы Веры, собранные на затылке в светлый пучок, на ее шею, плечи, спину.
Он смотрел на нее, когда пел эту песню, и пел только для нее, и ни для кого больше.
Все стояли к нему спиной, обращенные к портрету, и Вера была в их числе.
Андрею немыслимо хотелось, чтобы она повернула голову, посмотрела на него, и уже в этом была бы победа его искусства надо всем, что между ними произошло, хотя и произошло немногое, но ради своего спокойствия он не хотел и этого, малого; хотел, чтобы все было как раньше, ибо видел в этой неизменности своей жизни счастье, и судьбу, и единственный способ жить без тревог.
Он пел, глядя только на нее, только к ней обращаясь, и она, обиженная на него, собравшая вещи, думающая о нем плохо, обернулась среди песни, потом еще через некоторое время, когда он, уже торжествуя, пел последние слова, она обернулась к нему своим ясным заплаканным лицом, глядя на него прямо, прощающе, освобожденно от всего, что ее мучило в это время.
Все дальнейшее уже не имеет значения, как неважно то, как они ехали вечером домой, как она была вначале еще немного обижена на него, да и не обижена, делала вид, что обижена, и то, что он говорил ей или сидел молча, и то, как они доехали и поднялись в свою квартиру, носившую следы ее побега, — все это неважно, а важно то, как она тогда повернулась к нему, возвращая этим поворотом головы все, чем они жили каждый день, все их заботы, разговоры, все их радости и огорчения, которые если и случаются с ними, то проходят так же быстро и так же они излечимы, как все, что было в этот летний день.