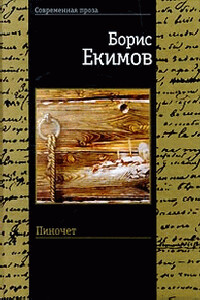К вечеру из тихой старицы, через остров, я вышел к Дону. Проглянуло солнце. Желтое, с красноватым ободом, оно повисло над задонскими холмами. По реке, по льду его, тянул ветер и знобил лицо.
Просторный замерзший Дон был пустынным. Лишь на той стороне его, по течению ниже, чернели две ли, три фигурки рыбаков — охотников до судака. И все. В редких застывших лунках лед желто отсвечивает. Скоро вечер. Пора прибиваться к дому.
Возле самого хутора, на льду, увидел я человека. Когда подошел, он уже заканчивал свои труды.
— Рыбалим? — спросил я.
— Поставил сетчонку, — ответил он, сматывая бечевочный урез. — Завтра поглядим, чего она нам покажет.
На деревянных санках стояли алюминиевые фляги, обычно в них молоко держат, они и называются доильными.
— Водички донской набрал. Бабка велела. Ныне ведь Крещенье…
Он жил на самом краю хутора. Старый человек, небольшого росточка, сухонький, в солдатском зеленом ватнике, не по росту долгополом, с ремнем для тепла. А жена у него была крупнее: дородная, смуглая казачка.
— Ну, бывайте здоровы, — попрощался он и потянул груженые санки своей дорогой, через камыш и займище.
— Бывайте… — ответил я и вспомнил, как прошлой осенью, еще по теплу, шел вечером от речки к своему ночевью, к дому, а они с бабкой сидели рядком на скамеечке, в глубине двора, за сараем, откуда открывался вид на просторный выгон и луг, на речку, на далекую Кораблеву гору, за которую солнце зашло. Темнело. Но все еще виделось: просторный зеленый луг до самой горы, купы деревьев.
Вечер. Люди немолодые. За день наработались. Вон у них какой огородище, двор, базы. Наработались, устали. А теперь отдыхают молча, рядком. И глядят. Всю долгую жизнь это видели: луг, над речкой — вербы, высокая гора, далекие холмы, небо. Всю жизнь видели. И не нагляделись.
А я здешней округи гость недавний, все мне дивно и ново. Потому и день пролетел незаметно с утра до вечера.