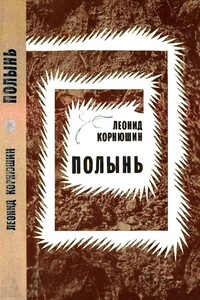— Без обувки-то сподручнее, — сказал оправдывающимся тоном Яков, присаживаясь к столу и вынимая из кармана бутылку.
— В деревне, но не в Москве. Копыты сорок пятого размера?
— Сорок третьего.
— Одевай, подойдут, — и она вытащила из шкафа войлочные тапочки, глядя на которые Яков подумал: «Тут перебывали, видать, разных размеров…»
На столе стояли неплохие закуски. Она села напротив, как бы не замечая расстегнутой верхней пуговицы халата и того, что в прорези больше чем наполовину были видны ее колышущиеся груди.
Вероника Степановна выглядела в этот вечер еще более деловитой и не обольщала его, очевидно полностью удостоверюсь, что теперь он уже никуда не уйдет. После первой же рюмки с грубой прямотой она спросила его:
— Чего ты от меня хочешь? — И предупредила: — Только не темни. Я, миленький, не дура.
— Что ж темнить? Как бы сказать… не сойдемся ль? — Он натянуто кашлянул и замолчал, глядя на ее высоко поднятые брови.
— А ты, вообще-то, в своем уме? — Она высокомерно улыбнулась, поправляя прическу.
— Дело хозяйское. Была б, говорят, шея — хомут найдется.
— Нынче кто шея, а кто хомут — большой вопрос. — Она выжидающе помолчала. — И что же, любопытно, ты можешь мне предложить? Койку в пролетарском общежитии?
— Зачем? Жилье у тебя толковое.
— Ну ты брось мылиться! — проговорила Вероника Степановна. — На готовое я в любой момент найду не мужлана. Чего захотел, — она коротко усмехнулась.
Якова подмывало бросить ей какие-либо веские слова, чтоб показать, что и он не лыком шит и знает ей цену, но, подумав о своем положении, промолчал, с покорностью и с тактом покашливая.
— Сколько ты получаешь?
— Ушел из бригады шабаев.
— Собрал капитал?
В тоне голоса и в выражении лица ее была ядовитая насмешливость, и Яков уже решился подняться, чтобы навсегда уйти от этой женщины, которая, как он чувствовал, ничего, кроме несчастья, не могла ему принести. Она понимала состояние Якова и с прежней иронической насмешливостью продолжала смотреть на него, должно быть испытывая его. И опять мутная страсть и одновременно трезвый расчет удержали его. И, против воли и рассудка, он с волнением пробормотал:
— Я ж не калека. Потребуется… так зашибу. Ты видишь, бутылка меня не прельщает.
— Слова, родной мой. Слова! Я их слышала неоднократно. — И, сделавшись серьезнее, спросила деловым тоном: — Каким же образом ты сможешь без трепотни поднять свой бюджет? Любопытно знать?
— Я столяр и плотник.
— Но в Москве нет этих шабаев. Тебе известно?
— А я больше с ними таскаться не намерен.
— Тем более. Плотники, конечно, на стройобъектах требуются. Что ты там заработаешь? Ничтожно мало. Если расторопный, не исключено, что можно иметь калым. Но я вижу, что ты не из тех, кто может зарабатывать деньги, — заметила она проницательно.
— Ты не ошиблась — не из тех, — подтвердил Яков.
— Нравится прозябать?
— Лучше воду пить в радости, чем мед — в кручине, по народной присказке.
— Высокая цель! — Она улыбнулась, но не зло и не ехидно, и Яков заметил, что душа этой женщины, видимо, была неплохая. — Только мед все-таки вкуснее воды. Не правда ли?
— Кому как.
— Зачем же ты, в таком случае, приехал в Москву? Бежал из артели?
Она задала ему каверзный, больной вопрос. Яков и сам себе не мог ответить зачем.
— Многие едут. — И, помолчав, спросил и ее: — А ты твердо знаешь… как следует жить?
— Представь себе — знаю.
— Ну, значит, счастливая.
— Как нравственная и строгая женщина, я не терплю пошлостей и распутства. Заруби, предупреждаю, милый, себе на носу. Кроме того, я люблю все красивое.
— Кто же говорит, что ты гулящая?
— Что за слово, мой милый? Что это, понимаешь, за слово! Ты с кем вообще имеешь дело? — пришла в искусственное негодование Вероника Степановна.
— Не возьму в ум, чего ты гневаешься? — испугавшись, что она прогонит его, пробормотал Яков.
— Ты должен знать, что живешь в столице и имеешь дело с воспитанной, интеллигентной женщиной. На мое жилье не мылься. С квартирой, повторяю, я могу найти не такого мужлана. Я не находила потому, что блюду нравственность. Я не какая-нибудь шкура. Знакома со знаменитостями. Мои друзья — артисты, писатели, художники. Я не терплю, когда мне перечат.
— Зачем же нам ругаться?
— Прописывать и расписываться с тобой я пока не намерена. А там увидим…
— Но без прописки меня не возьмут на работу.
— Это и дураку понятно. Ты с тем и мылишься — получить пропись. Меня не надуешь! Напишешь мне заявление, что в случае развода не будешь претендовать на мою жилплощадь. Понял?
— Ладно. Слов нет.
Вероника Степановна не хотела себе признаться, что неотесанный деревенщина нравился ей. Чем? Ну кто же объяснит, чем привлекает мужчина женщину? Можно постичь высшую математику и все сложные научные законы, но такую арифметику, скажем смело, никто не постигнет, ибо душа женщины покрыта мраком… Зверь был диковато-первобытный, не чета усушенным поклонникам, — должно быть, тем и тронул он уголок ее сердца.
— Садись сюда и дай мне огня, — сказала повелительно.
Он пересел к ней на тахту и осторожно обнял ее, но та оттолкнула его руки.
— Иди в ванную. Ты сер и грязен. Сними эту мразь. Фи!
…Он засыпал под новым для него кровом, грезя какой-то пустенький и голубенький сон, но в середине ночи, очнувшись, встал осторожно с постели, чтобы не разбудить женщину, и долго, до рассвета, ходил по лунным пятнам, не в силах освободиться от смутной тяжести на душе. Что-то жгло, не давало ему покоя…