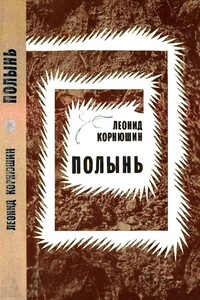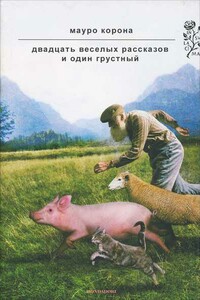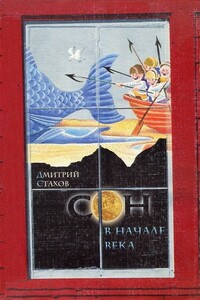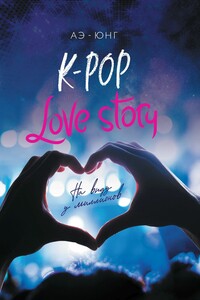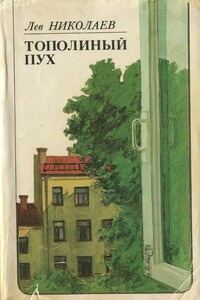I
Военный эшелон медленно, подолгу простаивая на станциях, подвигался с запада на восток — все дальше в глубь России. Другие эшелоны шли в обратном направлении — туда, где лежала, дымилась и пахла горелым железом и кровью почти поверженная Германия.
В вагонах эшелона, который двигался на восток, то есть домой, люди не отрываясь смотрели в маленькие окна на бегущую навстречу землю. А там, за окнами, всюду, куда проникал их взор, — было страшное, горькое разорение. Деревни — где одна, где две уцелевшие хаты — со своими черными, нагими печными трубами проплывали во мгле весенних туманов, чернели на косогорах. Иногда рядом с голой печной трубой какой-нибудь веселый — человек, скинув шинель, махал топором, мелькали худые лица детей, надрывающиеся в возах кони, и все это, соединенное в одну картину, представляло собой горькое и незабываемое зрелище.
Вешней ростепелью пах летящий навстречу мартовский ветер. В дремавших холодных пустынных полях просыпалась жизнь нового дня.
За ночь в теплушке сильно похолодало, по полу гулял сквозняк. Не открывая глаз, Иван рукой дотянулся до железной печурки — лед. Вагон не дергало, не качало, эшелон стоял. По другую сторону печурки, расчесывая светлые длинные волосы обломком гребешка, сидела девушка в пальтушке, в чиненых сапогах и с голодными глазами. Влезла она, наверно, ночью, когда Иван спал, вчера он ее не видел. Других людей не было в вагоне, на полу осталась одна подсолнечная шелуха. Иван закурил, разогнал дым рукой и спросил:
— Мы в России?
— В Белоруссии пока что, — сказала девушка, посмотрев на него со страхом.
— В Белоруссии? — обрадовался он. — Елки-палки, значит, скоро дома!
И впрямь: Россия была тут, рядышком, вон за теми березовыми перелесками в белых шубах, за сугробами и голыми снежными полями.
— Эх, стрельнуть бы! — произнес Иван и спросил: — Ты, наверно, замерзла?
— Дров бы надо, — сказала она несмело и печально. Он с громом отодвинул дверь, вдохнул в себя ветер, засмеялся, крикнул что-то и прыгнул в белую муть.
II
От поленницы свежих еловых дров, притулившейся к подветренной стене старого дома, остро пахнуло смолой. Что-то дорогое, из детства, напомнило Ивану: то ли запах русского леса, то ли благостную зимнюю тишь, в которой слышен едва внятный шорох низового ветра.
Иван стал загребать охапку дров и вдруг выронил их, пораженный, сказал:
— Просто невероятно!
В дырявом ватнике, посинелый от холода, у его ног шевелился куценький комочек.
«Ребенок?! Откуда? Не понимаю…» — Иван оглянулся. Рядом худой солдат тоже смотрел изумленно.
— Это бывает, — сказал он, — такое я видел.
И спеленали как следует, должно быть, рассчитывая, что в добрые руки он попадет не скоро, и даже соска — голубая резиночка — болталась на нитке. Мигнув синеватыми глазенками, ребенок пошевелился как мог и задергался так, как это бывает, когда дите резвится около матери.
— Самый настоящий, — пробормотал Иван.
Худой солдат, махая руками, побежал к вагону, как бы говоря: «Ты как хочешь, а я знаю, чем пахнет эта история». Он оглянулся, поправил шапку и прыгнул в вагон; впереди, в сосняке, шипел паровоз, пробуя стронуть эшелон.
Иван несмело приблизился к ребенку, нагнулся, взял сверток в руки, держа перед собой, как заряженное ружье, и неуверенно пошел.
Ребенок продолжал громко плакать.
Иван на ходу прыгнул в вагон и выглянул наружу.
Тесовый барак и кладка дров, кружась, утекали назад, перепадал тихий снежок, мережили с боков, простираясь до самого горизонта, подернутые тушью сумерек леса.
III
Девушка поднялась со скамьи, изумленно расширила глаза.
Иван шагнул к ней.
— Дар природы.
Девушка продолжала стоять молча.
— Какая-то сволочь подкинула. Вот, — он протянул ей ребенка. — Подержи-ка.
— Где ты его взял?
— Я говорю: одарили.
Она взяла и тоже стала держать в вытянутых руках, а Иван думал, как быть дальше и куда деть найденного ребенка.
Долгое время они ехали молча. Колеса под полом туго и радостно толкли рельсы. Покачивало.
— Положи на скамью, — приказал наконец Иван, — не стоять же так!
Но на скамье ребенок начал громко, жалобно плакать.
Обозленный и растерянный, Иван произнес:
— Ну дает! — И спросил озабоченно: — Твое мнение?
— Сдай куда следует на первой же станции.
— Сдам, конечно!
Вагон уже налился темнотой, и ребенок постепенно умолк. Его убаюкивали сумрак и покачивание.
— Чем же его кормить? — тихо спросила девушка. — Мы и сами-то не емши. — Она вдруг смущенно и стеснительно рассмеялась.
— Ты чего? — спросил Иван.
— Течет же! Глянь…
— Вполне понятно. И ты текла. Распутай пеленки, — сказал он.
Оттуда, из розовых тряпочек, шибануло живым теплом. Иван радостно гмыкнул, откинул назад жесткие волосы.
— Сменить бы надо. Подожди. Я рубаху разорву.
От ворота через подол, пополам, с треском разодрал, примерил и, ликвидировав рукава, протянул девушке:
— Сгодится. Валяй.
Очутившись в сухом, ребенок затих на короткое время.
Иван закурил и, подумав, что нельзя, вредно ребенку, неуклюже разогнал рукой дым.
Сидели молча. Клонило ко сну.
Впереди, где клубилась чернотой ночь, ждали их родная земля, новые заботы, дела, и требовалось петь уже иные песни. Война-то все-таки была позади. Был март сорок пятого, и фашиста добивали.