Деды и прадеды - [47]
В конце зимы стали потихоньку пить отвары, которые варила Тася.
А потом… А потом что-то изменилось, будто воздух изменился. Когда немцы объявили траур, о его причине быстро узнали все.
Сталинград.
И тогда по глазам людей побежали трещины. Так среди беспросветно хмурого зимнего дня лопается речной лёд. Мороз крепчает, ветра становятся пронзительными, снег заметает берега. Но ключи на дне реки продолжают толкать маленькие струйки. С каждым днём давление чёрной воды, поднимающей ненавистный и такой, кажется, неуязвимый панцирь, нарастает. Зализанный ветрами, засыпанный снежными застругами, серый, мутный лёд вдруг беззвучно змеится трещинами, он ещё не разваливается на куски, не грохочет ледоходом, нет, ещё рано. Но трещины ползут и множатся.
И на смену чувству раздавленности пришла тихая, очень тихая, решительная злость. Даже не открытая злость, нет, это не было возможно, нет.
Люди стали ждать. Они не искали спасения в утешительной надежде, как свойственно людской природе. Они уже знали. И поверили.
И стали ждать. И это ожидание и эта вера волей-неволей засветились в глазах. Но… Но все же люди, все всё понимают — и немцы почувствовали это ожидание. Ожидание конца. Ожидание смерти. Их смерти. И немцам пришлось это принять. И это было по-настоящему страшно — впустить ожидание смерти в свою душу поверить в свою смертность в двадцать с небольшим лет.
Маленькая больничка продолжала работать, но немцы заходили туда всё реже. И это давало возможность больше принимать местных, делать более сложные операции, те, на которые Николай Ростиславович при всех прочих обстоятельствах не решился бы или при принятии решений оказался бы в крайних, безвыходных ситуациях.
Однажды ему пришлось оперировать двух, по-видимому, важных немцев, искромсанных осколками мины на повороте на Житомир. Его топоровский «коллега» рассудил, что души покинут порванные тела прежде, чем их довезут в киевский госпиталь, и привёз раненых в больничку Грушевского.
Вот именно тогда Николай Ростиславович впервые увидел то ли чешскую, то ли германскую новинку — раствор для борьбы с операционными горячками, что-то на основе плесени. «Коллега» натурально трясся над этими невзрачными пузырьками и говорил, что этого лекарства и в рейхе днём с огнём не сыскать. Николай Ростиславович, которому, если что-то пройдёт не так, совершенно излишне была обещана даже не пуля, а обычная верёвка, брезгливо цыкнул на «коллегу» и приказал тому не путаться под ногами, если хочет ассистировать.
Действительно, безупречные операции завершились удачно, «коллега» получил неожиданный отпуск в родной Мюнхен и в радостях сборов забыл проследить, куда делись остатки раствора…
В конце марта 43-го года, одним обычным вечером, к больничке, разбрызгивая грязь, подъехала телега, запряжённая разномастной парой. Загнанные лошади хрипели и дёргали перепутанные вожжи. С телеги попрыгали четыре мужика непонятной наружности, потом стали вытягивать свою ношу — на щите, наскоро сделанном из грязного горбыля, лежал мельник Белевский. Потом с телеги слезла жена мельника, укутанная в большую пуховую шаль.
Вид мельника был ужасен. Его живот был похож на бочку. Мужики, надсаживаясь, потянули огромную тушу, угрюмо матерясь и хрипя от натуги.
С крыльца к ним сбежала Лорка, на бегу поднимая воротничок белого халата.
— Это кто? Куда вы его тащите?!
— К дохтуру Мельника тащим. Кончается мельник. Животом мается. Хрипит уже.
— Господи, так нет же никого, только ушли все!
— Как ушли?! Кончится же он! Ах ты ж, история! А дохтур где?! А ну, бежи за дохтуром, дочка, поспешай. Скажи — кончится мельник. Очень мужики просят.
Жена мельника молча стояла рядом, спрятав пухлые руки под шаль, скучающе и несколько ревниво рассматривая рыжую Лорку, убогую наружность хаты, в которой была оборудована операционная, стёртое крыльцо и какие-то непонятные объявления на немецком.
Мужики что-то ещё галдели, но Лорка уже бежала со всех ног, намереваясь догнать ушедших. Мужики положили Белевского прямо на крыльце, сами стали рядом и закрутили самокрутки, тихонько беседуя и стараясь не коситься на мельничиху. Лорка добежала до поворота, увидела вдали чёрное пальто доктора и девчонок, его сопровождавших.
Ой, как же она закричала! Так кричала, что ушедшие бросились назад со всех ног. По окрестным дворам дурными голосами забрехали собаки. Девчонки бежали, придерживая платки, а сзади, налегая на трость, раскачивался и прихрамывал Николай Ростиславович.
Как только он подошёл, угрюмые мужики быстро встали рядом, снимая шапки и крестясь, будто на Спаса. Девчонки стояли в сторонке, испуганные, готовые броситься помогать доктору. А Николай Ростиславович сразу преобразился, будто помолодел. Он отогнал Лорку, вытиравшую холодный пот со лба тихо стонущего мельника, наклонился.
— Ты слышишь меня? Слышишь?
— Да…
— Что болит?
— Живот…
— Давно?
— Да…
Старый хирург одним движением смахнул с раздувшегося брюха старое покрывало. Мельник слабо и часто дышал, живот был слегка перекошен от напряжения.
— Ой, Николай Ростиславович, что с ним?!
— Так, помолчите, барышни. Сейчас…
Доктор быстрыми, точными и очень осторожными движениями стал прикасаться к очень горячему животу, определяя границы напряжения мышц, потом стал словно рисовать какие-то знаки на коже, что-то высчитывая и примериваясь.
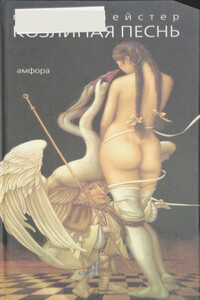
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

У берегов Норвегии лежит маленький безымянный остров, который едва разглядишь на карте. На всем острове только и есть, что маяк да скромный домик смотрителя. Молодой Арне Бьёрнебу по прозвищу Немой выбрал для себя такую жизнь, простую и уединенную. Иссеченный шрамами, замкнутый, он и сам похож на этот каменистый остров, не пожелавший быть частью материка. Но однажды лодка с «большой земли» привозит сюда девушку… Так начинается семейная сага длиной в два века, похожая на «Сто лет одиночества» с нордическим колоритом. Остров накладывает свой отпечаток на каждого в роду Бьёрнебу – неважно, ищут ли они свою судьбу в большом мире или им по душе нелегкий труд смотрителя маяка.
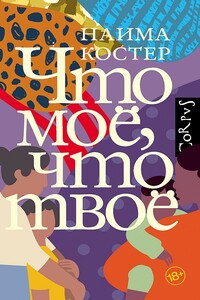
В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.