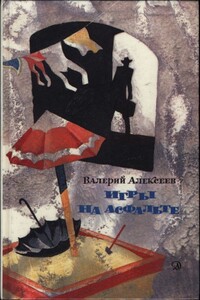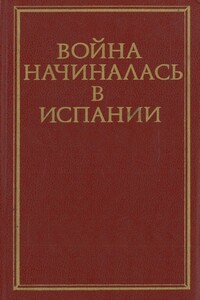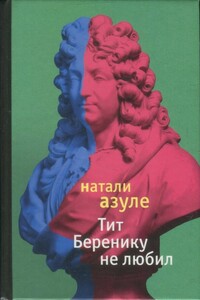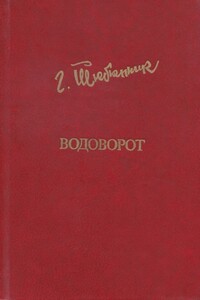Становится дед на колени, прикладывает ухо к земле и долго-долго прислушивается.
— Ага, шевелится, — радуется, словно дитя. — Шевелится. А ну, прислушайся, — заставляет меня.
Прислоняю ухо. Сначала ничего не слышу. Так, словно кто-то дышит: легонько, как ребенок во сне.
— Слышишь? — спрашивает дед.
Молчу. Боюсь спугнуть это прекрасное мгновение.
— Слышишь? — спрашивает громче.
— Слышу! — глубоко вздыхаю.
— Еге… — радуется дед и начинает потихоньку раскапывать землю.
Под его руками она вздохнула, зашевелилась. И вскоре лунки заслезились. Сначала мутно, а потом чистейшей водой. И уже виднелся в ней кусок неба со взбитым до белой пены облаком. Потом и деревья послали на водопой легкие тени.
— Будем крестить наше дитя? — спрашивает.
Это он криничку так называет. Стаскивает с ног сапоги и садится на пень.
— А как ее назовем? — спрашиваю. Потому что дед каждому своему колодцу и родничку еще и имя давал.
— Называй ты.
И я вдруг вспоминаю про соседскую девочку Марию. У нее точь-в-точь, как весенние родники, глубокие и чистые очи.
— Мария!
— Пусть будет Мария, — соглашается дед и вытаскивает из бесаг>1 граненый стакан. Раскладывает перед собой хлеб, сало, и, опьяненные счастьем весеннего света, долго сидим возле родившейся только что кринички — не один прохожий в жару напьется из нее, наверное, незлым словом вспомнит дедовы руки и щедрое сердце.
Под вечер дед ведет меня в село. Идем мимо леса, и когда выбегают нам навстречу из села первые хаты, дед вдруг останавливается. Оборачивается к лесу, трет лоб, словно забыл что-то там, и говорит:
— Иди, уже сам дойдешь до хаты, а я себе в лес вернусь. Еще прошлой осенью приметил одно местечко. Кажется мне, там должна быть криница со сладкой водой.
И возвращается. Стою на распутье. Печальными глазами смотрю, как он поднимается по горе к лесу.
Солнце красным яблоком падает с голубого небесного дерева. Седеют сумерки, гора достигает окоема. И дед несет на плечах ту угасающую грань, где небо к земле припадает. Несет медленно, утомленно, как честно заработанный тяжелый сноп…