Цимес - [80]
— Нюта остается. Я не просто понимаю почему — я знаю. Вот только радоваться этому или огорчаться? Прыгнуть самой проще, взлетишь или разобьешься — тебе и платить. Но когда речь о ней, я… Я по-прежнему не уверена, готовы ли вы, Саша. Больше того — способны ли. Здесь нельзя ошибиться ни вам, ни мне, но больше всего — ей. Вы даже не представляете себе, какая у этого может быть цена, да и никто не представляет. Нюта несравнимо умнее и мудрее меня, хотя бы поэтому я не могу ничего изменить и ничему помешать — она все равно поступит по-своему. Но вы, вы уверены — не в том, нужна ли она вам, а в том, нужны ли вы ей? И потом, несмотря на все, что я только что сказала, она ведь еще ребенок… Не отвечайте мне, Саша, ответьте самому себе — я пойму.
Я и не ответил — ни ей, ни себе. Хотя себе, по крайней мере, пытался, но очень быстро понял, что смысла в этом нет никакого — Нюта оказалась не только умнее и мудрее, она оказалась и сильнее тоже — и меня, и Этери, и даже самой себя. Да и могло ли быть иначе?
В любом случае, едва начав говорить с ней, замолчать снова было невозможно — точка невозврата оказалась в самом начале пути, а может, ее не было вообще. Я этого не знал, а Нюта об этом не задумывалась вовсе. Ну и что?
Нюта водит кистью по холсту, то скрываясь за ним совсем, то появляясь снова. Я сижу у самого окна, борясь с желанием подойти посмотреть и дотронуться до нее. Она молчит, лишь иногда бросает на меня взгляд, всматриваясь во что-то, видимое только ей, и улыбается своими фиолетовыми глазами. Я не выдерживаю.
— Что ты делаешь, когда слова рвутся наружу, а произнести их невозможно? И рядом никого, с кем бы ты могла…
— Я уже привыкла. Это называется: когда от слов спасенья нет.
— Вот-вот. И как же ты спасаешься?
— Иногда слова начинают говорить друг с другом, а я только слушаю, и бывает даже смешно, но и грустно тоже. А чаще всего я рисую, и рисунки говорят вместо меня.
— Они не говорят, они кричат. По крайней мере, те, которые я видел.
— Это выходит само собой. А самое трудное — давать им названия. Картина или рисунок без названия — это как человек без имени.
— Но ведь так ты подсказываешь другим, что́ ты хотела сказать, говоришь им, куда думать. Может, правильнее дать им возможность понять самим? Во всяком случае, попытаться. Просто — безымянный холст, безымянный рисунок, и все.
— Мне не приходило в голову. И про других тоже. Их у меня никогда не было, только мама, папа и Мигель. Иногда Берта. Потом появилась Алекс, теперь ты. Но вы все — часть меня, то, что у меня внутри, какие же вы другие? Ведь я рисую и вас тоже.
— Ты хочешь сказать, что все твои работы — это ты изнутри?
— Конечно. Я рисую и пишу все время одно и то же — себя.
— Но в одном мазке твоей кисти, в одной линии умещается целая жизнь. Словно тебе ведомо все, что было, есть и будет. Ты не бог случайно, Нюта?
Она смотрит на меня, и в глазах ее вдруг просыпается лукавство.
— А когда ты меня целуешь, ты думаешь так же?
— Когда я тебя целую… Когда я тебя целую, я сам себе не верю. Когда я от тебя отрываюсь, я не верю себе еще больше. И не знаю, что с этим делать.
— Положись на бога, который внутри, так говорит мама.
— Внутри у меня ты. В этом смысле я с ней абсолютно согласен. Другой бог мне не нужен.
— А он никого не спрашивает, нужен или нет. Он просто есть, и все. Везде, даже в деревьях. И в тебе тоже.
Внезапно до меня доходит, что, и глядя на меня, она ни на секунду не прекращает работу. Ее рука, ее кисть живут словно сами по себе, словно принадлежат другой Нюте — Нюте всевидящей, Нюте неземной, может быть, даже небесной.
Нюта — дневник
Когда мне совсем плохо, я всегда вспоминаю Мигеля и его мальвы — их тяжелые душистые головы, в которых живет шерстяной шмель. Мигель — это наш садовник, он почти такой же старый, как Берта, и у него внутри солнце. Когда-то он рассказал мне, что его предки — потомки вымершего племени майя, что таких, как он, осталось на земле совсем мало — единицы, и они узнают друг друга по кусочку солнца внутри. Я помню Мигеля столько же, сколько помню себя, а себя я помню давно, даже еще до рождения. Я поняла это, когда спросила у мамы, где те красные цветы, которых раньше было так много. Порой мне казалось, что они и есть мой настоящий дом.
— Нюта, доченька, это были мальвы, они в самом деле росли вон там, — она показала на горку камней рядом с ручьем, — и их действительно было много. Я любила сидеть среди них и читать тебе вслух, но когда дедушка заболел, их красный цвет стал его раздражать, и пришлось их выполоть. Даже Мигель тогда плакал. Удивительно, что ты их помнишь, ведь ты еще не родилась, я была только на шестом месяце. Значит, ты видела и запомнила их еще до своего рождения. Я читала, что такое в самом деле бывает, правда очень редко. Наверное, у нас с тобой как раз такой случай.
Мигель работает с утра до вечера. Я вижу его то окапывающим деревья, то поливающим цветы в клумбе, то стригущим траву, которая растет слишком быстро. Он никогда не отдыхает, но ровно в полдень садится на плоский белый камень у ограды и принимается за обед. Маленькой я любила подкараулить его в этот момент, и он каждый раз угощал меня чем-то удивительным, даже если это было обычное яблоко, или печенье, или горсть малины. У него это было почему-то гораздо вкуснее и необычнее, чем дома. А еще мы разговаривали.
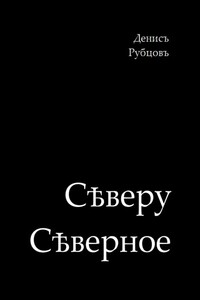
Сборникъ разсказовъ на старославянскомъ языкѣ съ многоплановой сюжетной линіей и суммой жанра хронооперы (путешествія во времени), былички (деревенская мистика) и альтернативной исторіи Совѣтскаго Союза. Межполовая романтика присутствуетъ.

Признанная королева мира моды — главный редактор журнала «Глянец» и симпатичная дама за сорок Имоджин Тейт возвращается на работу после долгой болезни. Но ее престол занят, а прославленный журнал превратился в приложение к сайту, которым заправляет юная Ева Мортон — бывшая помощница Имоджин, а ныне амбициозная выпускница Гарварда. Самоуверенная, тщеславная и жесткая, она превращает редакцию в конвейер по производству «контента». В этом мире для Имоджин, кажется, нет места, но «седовласка» сдаваться без борьбы не намерена! Стильный и ироничный роман, написанный профессионалами мира моды и журналистики, завоевал признание во многих странах.

Россия, наши дни. С началом пандемии в тихом провинциальном Шахтинске создается партия антиваксеров, которая завладевает умами горожан и успешно противостоит массовой вакцинации. Но главный редактор местной газеты Бабушкин придумывает, как переломить ситуацию, и антиваксеры стремительно начинают терять свое влияние. В ответ руководство партии решает отомстить редактору, и он погибает в ходе операции отмщения. А оказавшийся случайно в центре событий незадачливый убийца Бабушкина, безработный пьяница Олег Кузнецов, тоже должен умереть.

Ремонт загородного домика, купленного автором для семейного отдыха на природе, становится сюжетной канвой для прекрасно написанного эссе о природе и наших отношениях с ней. На прилегающем участке, а также в стенах, полу и потолке старого коттеджа рассказчица встречает множество животных: пчел, муравьев, лис, белок, дроздов, барсуков и многих других – всех тех, для кого это место является домом. Эти встречи заставляют автора задуматься о роли животных в нашем мире. Нина Бёртон, поэтесса и писатель, лауреат Августовской премии 2016 года за лучшее нон-фикшен-произведение, сплетает в едином повествовании научные факты и личные наблюдения, чтобы заставить читателей увидеть жизнь в ее многочисленных проявлениях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)
