Цимес - [82]
ЗАБВЕНИЕ
Поднявшись по узкой, крутой, с резными деревянными перилами лестнице, попадаешь в крохотную мансарду с большим круглым окном и улицей за ним. Узкая и белая, она тянется и тянется, подставляя себя солнцу, пока не вливается наконец в раскаленный город. Вся как на ладони, мы знаем друг друга в лицо.
Здесь Нюта пишет.
Семь лет. То, что произошло за это время с нами, ни представить, ни описать невозможно. Да и зачем? Я оберегаю ее, а вместе с ней ту боль и тот свет, которые и есть мы. Мы все.
Порой мне кажется, что она старше всех нас, живущих, вместе взятых. Есть такое выражение в ее глазах, когда она замирает на секунду, прежде чем коснуться кистью холста, или просто молчит.
Будто солнце зашло навсегда.
Она научилась говорить, но так и не научилась лгать.
И пусть ее и ее единственную выставку забыли почти сразу, а «Магнолия» так и продолжает висеть у нас на стене. Пусть старый храм будет окончательно забыт, а новый не построен никогда, но в самый последний, самый отчаянный миг всегда можно покинуть свой дом, уйти и стать деревом. Это не так трудно, поверьте.
Нюта любит повторять, что, встретив друг друга, мы с ней нашли бога, хотя и она, и я знаем, что на самом деле бог — это лишь вечные поиски его. Во всем. Обретения, потери и вечная жажда.
Бог — это все мы, отчаявшиеся, голодные, неправедные, ищущие.
Ах, это крохотное солнце внутри, да есть ли оно вообще?
Она продолжает рисовать.
Я никогда не спрашиваю ее — зачем, но вовсе не потому, что боюсь не услышать или не понять ответ. Временами мне даже кажется, что я его знаю, и тогда дико, до смерти хочется нарисовать ее самому. Вместо этого я вжимаюсь лицом в ее ладони и, хотя она молчит, слышу:
— Никогда не бойся того, что придет. Ведь все уже было, все было…
Нюта скоблит палитру, счищая засохшую краску. Полдень. Солнце палит, как будто все люди майя глядят на нас сверху. Вдруг ее рука с мастихином замирает в воздухе.
— Почему-то вспомнила, — говорит она, уставившись в окно, — как однажды спросила у дедушки, что́ он почувствовал, увидев в Торе свое имя. Знаешь, что он ответил? «Я заплакал».
Она рисует.
Цимес
И прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
Бытие (гл. 2, ст. 24)
Зовут меня Адам Герц, а герц означает сердце. Но не о фамилии, пусть звучной и гордой, сейчас речь. Имя — вот в чем самый цимес.
Кто решил назвать меня так — неизвестно. Сколько я ни спрашивал, мама всегда отнекивалась, а отец нас бросил еще в ту пору, когда я не умел задавать вопросы. Бабушка Фейга, его мама, конечно, могла бы знать, но к тому моменту, как я научился их задавать, она уже не помнила ответы, сидела целыми днями в своей комнате и смотрела в окно.
Она жила с нами, потому что он бросил и ее тоже.
Я любил приходить к ней в комнату. Усаживался рядом, упирался локтями в подоконник, и мы смотрели в окно вместе. Там сначала падали листья, потом летел снег — так продолжалось до тех пор, пока однажды утром она не проснулась и мне стало не с кем смотреть в окно. Зато на похороны приехал папа. Я его не узнал, а когда наконец поверил, что этот красивый и совсем не к месту веселый человек и есть мой отец, постеснялся спрашивать, почему меня назвали таким смешным именем. Он пробыл недолго, уехал на следующее утро после похорон, оставив мне железную коробку с монпансье, а маме красные пятна на щеках — они выступали всегда, когда она злилась.
Я рос. Закончил школу и поступил в Архитектурный институт. Листья за окном продолжали падать как ни в чем не бывало.
Кроме того, у меня появилась Ева. Это произошло не сразу, но все-таки произошло. На самом деле ее звали удивительно — Аполлинария, а попросту Полинька, и имя это замечательно ей подходило. Евой она стала и оставалась только у меня внутри с самого момента нашего знакомства на втором курсе, когда мы начали рисовать обнаженную натуру. Там-то, на рисунке, все и началось.
Модели на занятиях менялись довольно часто. Однажды в классе появилась она, и оказалось, что женское тело может привести меня в восторг. Необходимо лишь одно условие: это должно быть ее тело. Если верно, что нет ничего красивей чистого листа бумаги, то в этот день я создал шедевр: лист ватмана на моем подрамнике так и остался девственно чистым — я просто не мог оторвать от нее взгляд. Смотреть на нее было чудом. А дотрагиваться?
Я дотронулся. В перерыве, когда она, набросив на плечи шаль и покачивая голой ногой, листала какой-то журнал, я подошел и, тронув ее за локоть, спросил:
— Вам не холодно? Хотите, я принесу вам чаю?
Конечно, вокруг раздались смешки. А она подняла на меня глаза и спросила как-то очень мягко и насмешливо, а может, мне это только показалось:
— Вас как зовут?
— Адам, — ответил я и покраснел.
— Адам? — переспросила она. — Тогда хочу.
Через минуту ее ладони уже обхватывали большую чашку чаю, которую я нахально утащил прямо из преподавательской.
— Адам… Надо же. Вот уж никогда бы не подумала.
— Не подумали чего?
— Что есть вот такие вот Адамы, — она встала, шаль с ее плеч соскользнула совершенно невероятным образом, и я увидел совсем рядом ее матовое плечо, чуть размытый темно-розовый сосок и…

Признанная королева мира моды — главный редактор журнала «Глянец» и симпатичная дама за сорок Имоджин Тейт возвращается на работу после долгой болезни. Но ее престол занят, а прославленный журнал превратился в приложение к сайту, которым заправляет юная Ева Мортон — бывшая помощница Имоджин, а ныне амбициозная выпускница Гарварда. Самоуверенная, тщеславная и жесткая, она превращает редакцию в конвейер по производству «контента». В этом мире для Имоджин, кажется, нет места, но «седовласка» сдаваться без борьбы не намерена! Стильный и ироничный роман, написанный профессионалами мира моды и журналистики, завоевал признание во многих странах.

Россия, наши дни. С началом пандемии в тихом провинциальном Шахтинске создается партия антиваксеров, которая завладевает умами горожан и успешно противостоит массовой вакцинации. Но главный редактор местной газеты Бабушкин придумывает, как переломить ситуацию, и антиваксеры стремительно начинают терять свое влияние. В ответ руководство партии решает отомстить редактору, и он погибает в ходе операции отмщения. А оказавшийся случайно в центре событий незадачливый убийца Бабушкина, безработный пьяница Олег Кузнецов, тоже должен умереть.

Ремонт загородного домика, купленного автором для семейного отдыха на природе, становится сюжетной канвой для прекрасно написанного эссе о природе и наших отношениях с ней. На прилегающем участке, а также в стенах, полу и потолке старого коттеджа рассказчица встречает множество животных: пчел, муравьев, лис, белок, дроздов, барсуков и многих других – всех тех, для кого это место является домом. Эти встречи заставляют автора задуматься о роли животных в нашем мире. Нина Бёртон, поэтесса и писатель, лауреат Августовской премии 2016 года за лучшее нон-фикшен-произведение, сплетает в едином повествовании научные факты и личные наблюдения, чтобы заставить читателей увидеть жизнь в ее многочисленных проявлениях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
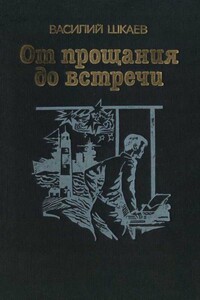
В книгу вошли повести и рассказы о Великой Отечественной войне, о том, как сложились судьбы героев в мирное время. Автор рассказывает о битве под Москвой, обороне Таллина, о боях на Карельском перешейке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)
