Чужая весна - [7]
Что знаем мы?
Карусель
В лавке часовщика
…Где сердце — счетчик муки.Ин. Анненский
«Растапливали печь, поддерживали пламя…»
ПЛЕННЫЙ ВЕТЕР (Таллинн, 1938)
I
«Нарастает, бьется, стремится…»
1934
Сон
1935
«Поразил Господь слепотой…»

В центре внимания третьего сборника «Бурелом» (Хельсинки, 1947) внутренний мир поэта, чье душевное спокойствие нарушено вторжением вероломной войны. Новое звучание обретает мотив любви к покинутой родине. Теперь это солидарность с ней в годину испытаний, восхищение силой духа народа, победившего фашизм.

Четвертая книга стихов «Ветви» (Париж, 1954) вышла незадолго до смерти Веры Булич. Настроение обреченности неизлечимо больного художника смягчено в сборник ощущением радости от сознания, что жизнь после ухода в иной мир не кончается.Лейтмотив всего, что Булич успела сделать, оставшись, подобно другим «изгнанникам судьбы», безо всякой духовной опоры и материальной поддержки, можно определить как «верность памяти слуха, крови и сердца». «Память слуха» не позволяла изменить родному языку, русской культуре.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

Статья написана на материале несохранившейся студенческой работы Добролюбова, выполненной на третьем курсе Главного педагогического института. Послужила поводом для знакомства с Н.Г. Чернышевским и положила начало постоянному сотрудничеству Добролюбова в «Современнике». С этой статьей Добролюбов вошел в русскую литературу и заявил себя в ней как крупная самостоятельная величина. Большой общественный резонанс статьи, посвященной такой «академической» теме, как журнал XVIII в., объясняется тем, что Добролюбов сумел придать ей серьезный современный интерес, не выходя при этом за рамки материала.

«…Итак, «действительное» есть то, что есть в самом деле; «воображаемое» есть то, что живет в одном воображении, а чего в самом деле нет; «призрачное» есть то, что только кажется чем-нибудь, но что совсем не то, чем кажется. Мир «воображаемый» в свою очередь разделяется на «действительный» и «призрачный». Мир, созданный Гомером, Шекспиром, Вальтером Скоттом, Купером, Гете, Гофманом, Пушкиным, Гоголем, есть мир «воображаемый действительный», то есть столько же не подверженный сомнению, как и мир природы и истории; но мир, созданный Сумароковым, Дюкре-Дюменилем, Радклиф, Расином, Корнелем и пр., – есть мир «воображаемый призрачный».

«…И вот, когда им случится играть пьесу, созданную высоким талантом из элементов чисто русской жизни, – они делаются похожими на иностранцев, которые хорошо изучили нравы и язык чуждого им народа, но которые все-таки не в своей сфере и не могут скрыть подделки. Такова участь пьес Гоголя. Чтоб наслаждаться ими, надо сперва понимать их, а чтоб понимать их, нужны вкус, образованность, эстетический такт, верный и тонкий слух, который уловит всякое характеристическое слово, поймает на лету всякий намек автора.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
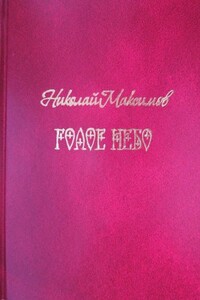
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.
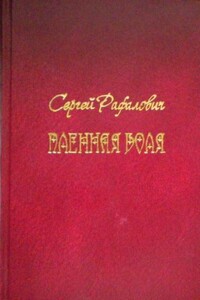
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.
