Чужая весна - [33]
Равнодушие к годам было бы равносильно равнодушию к приближающейся смерти. Но смерть для Анненского «это люк в смрадную тюрьму»:
Дыхание смерти чувствует Анненский во всем. О смерти говорит ему ночь, напоминая ее «всем, даже выцветшим покровом», и «Черная весна» — оттепель, тлением снегов, и любимые им цветы в хрустальной вазе, всегда сменявшиеся на письменном столе:
И перед лицом смерти чувствует Анненский одно:
Примирения нет. Есть одно сознание обреченности:
и сознание одиночества:
Гнетущий мрак обнаженной бездны с ее «страхами и мглами», мрак тютчевской ночи:
Это чувство беспомощности и беззащитности которое Тютчев испытывал перед лицом ночи, Анненскому внушалось не ночью, которая томила бредом и давала «одуряющее забвенье», а днем, «грязно-бледным», нудным и мутным днем оттепели, когда снежные покровы осквернены черными пятнами тления и грубо срываются с земли, как отнимаются от души все ее обольщения и очарования. Мучительное «пробуждение». «Кончена яркая чара», остается ничем не скрытая, не прикрашенная действительность — и от нее «страшно и пусто в груди».
Что может дать опору человеку? Вера? Любовь? Но веры у Анненского нет.
«На самого себя покинутый» человек старается своими силами разрешить то запутанное, ускользающее и неразрешимое, что называется смыслом жизни.
Гордое одиночество («я никто и ничей»), одинокие поиски («я ощупью иду своей дорогой»), нежелание принять готовую общую веру («зачем мне рай, которым грезят все»).
Не может и любовь дать опору сердцу, потом что любовь для Анненского в корне своем страданье, неосуществимость мечты.
Любовь это тоже «мука идеала», идеала недостижимого; можно только мечтать о «лучезарном слиянье», но в действительности любовь оказывается или «роковым поединком» Тютчева, «проклятым огнем» (Анненский), который обугливает сердце, или она наполняет «одним дыханьем два паруса лодки одной», которым не дано «сгорая, коснуться друг друга». Любовь безнадежна, она только яснее доказывает человеческую разделенность и одиночество.
А жизнь — будничная, томительная, однообразная, с нудным вокзальным ожиданьем («…что-нибудь, но не это…»), невыразимым томлением, «не отмоленным грехом пережитого дня», с тем «нестерпимым однообразием», которое заставило воскликнуть Тютчева:
и Анненского:
Анненский томится по чудесному расцвету души, преображенной порывом, и его мучит несоответствие между «отвагой и победами мечты» и бессилием повседневности. Жизнь тягостна не только своим гасящим «нестерпимым однообразием», но и многими обидами, из которых самая страшная для гордого бунтующего человеческого «я» — неизбежность конца, обида «Лазарей, забытых в черной яме», «всех, чья жизнь невозвратима». «Слабому сирому сердцу», обнаженному в своей беззащитности, неоткуда ждать помощи.
Гордость и застенчивая нежность сердца, чуткого к обидам и томящегося по яркому горению, роднит Анненского с Тютчевым. Единственное, что можно сделать, чтобы уберечь сердце от лишних уколов — это скрыть его нежность, его глубину от посторонних глаз. И Тютчев заповедует в своем Silentium:
не только потому, что «мысль изреченная есть ложь», но и потому, что «их заглушит наружный шум, дневные ослепят лучи».
Анненский часто прячет свои чувства под маской иронии и в своей Прелюдии говорит, что бывают мгновенья,
Тогда нужно остаться в полном одиночестве, потому что даже голос друга становится, «как детская скрипка, фальшив». Но в этом одиночестве Анненский не замыкается в себе, в своей только муке; именно через свою боль ощущает он родственность всех одиноких, обиженных и обреченных и через боль переживает свое слияние с миром.
Бесконечность для него это — «миг, дробимый молнией мученья».
И в этом родственен Анненский Тютчеву, для которого час слияния с миром — «час тоски невыразимой; все во мне, и я во всем».

В центре внимания третьего сборника «Бурелом» (Хельсинки, 1947) внутренний мир поэта, чье душевное спокойствие нарушено вторжением вероломной войны. Новое звучание обретает мотив любви к покинутой родине. Теперь это солидарность с ней в годину испытаний, восхищение силой духа народа, победившего фашизм.

Четвертая книга стихов «Ветви» (Париж, 1954) вышла незадолго до смерти Веры Булич. Настроение обреченности неизлечимо больного художника смягчено в сборник ощущением радости от сознания, что жизнь после ухода в иной мир не кончается.Лейтмотив всего, что Булич успела сделать, оставшись, подобно другим «изгнанникам судьбы», безо всякой духовной опоры и материальной поддержки, можно определить как «верность памяти слуха, крови и сердца». «Память слуха» не позволяла изменить родному языку, русской культуре.

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».
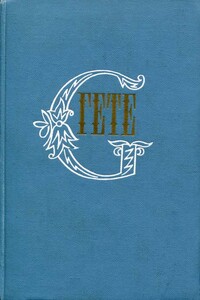
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Маленький норвежский городок. 3000 жителей. Разговаривают все о коммерции. Везде щелкают счеты – кроме тех мест, где нечего считать и не о чем разговаривать; зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными; да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия…».

«В Народном Доме, ставшем театром Петербургской Коммуны, за лето не изменилось ничего, сравнительно с прошлым годом. Так же чувствуется, что та разноликая масса публики, среди которой есть, несомненно, не только мелкая буржуазия, но и настоящие пролетарии, считает это место своим и привыкла наводнять просторное помещение и сад; сцена Народного Дома удовлетворяет вкусам большинства…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.
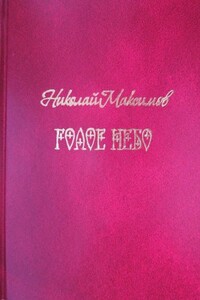
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.
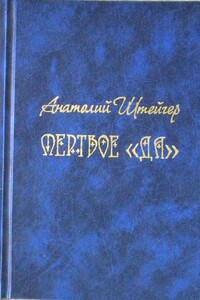
Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З.