Что за рыбка в вашем ухе? - [15]
И Чаплин принимается исполнять некую обобщенно иммигрантскую песенку:
и так далее.
Для англичанина, который, не зная иностранных языков, смутно представляет себе, как звучит французская (или итальянская, или испанская) речь, это похоже на французский или итальянский, а может — испанский. В строчках нет никакого смысла, и только несколько слов действительно взяты из французского (итальянского, испанского). Аналогичный прием использован в советском фильме «Формула любви», персонажи которого выдают бессмысленный набор итальянских слов за песню. Ее припев звучит так:
Суть в том, что тексту не обязательно быть осмысленным, чтобы звучать на иностранный лад. Для древних греков иностранная речь была сродни немодулируемому звуку из открытого рта: ва-ва-ва; вот почему они всех негреков называли варварами. Говорить на иностранном языке — значит говорить чушь, невнятицу, быть немым. Русское слово «немец» происходит от слова «немой», раньше этим словом называли всех иностранцев.
Однако начиная с 1980-х многие европейские классические произведения были заново переведены на английский и французский переводчиками, которые декларировали свое стремление заставить известные классические произведения, такие как «Преступление и наказание» или «Превращение», звучать по-иностранному — хотя они безусловно не хотели сделать их бессмысленными.
Переводчики XIX века часто оставляли ходовые слова и фразы на языке оригинала (в основном если оригинал был на французском). Нынешние переводчики на английский редко прибегают к этому приему, как бы они ни стремились к форенизации. Когда Грегор Замза, проснувшись однажды утром, обнаруживает, что превратился в насекомое, ни в одном современном английском переводе он не восклицает Ach Gott![12]. И Обломов ни в одном из имеющихся английских переводов одноименного романа не говорит: «Что это я в самом деле». А вот если бы эти романы были написаны по-французски и переведены на английский в традициях 1820-х, можно было бы не сомневаться, что в английском переводе Грегор Замза сказал бы Oh mon Dieu![13].
Ситуация изменилась — но не во французском, немецком или русском, а в английском. В современной языковой культуре от английских читателей не ожидается, что они опознают разговорные структуры наподобие английских Good God![14] или Well, now[15], произнесенные на немецком или русском, — а образованные британцы Викторианской и Эдвардианской эпохи знали подобные высказывания на французском.
Иногда в переводах оставляют фрагменты на языке оригинала в просветительских целях. Это позволяет читателям пополнить или освежить школьные знания. Сохранение исходных выражений в тех строго ограниченных ситуациях, когда их смысл очевиден, например в приветствиях или восклицаниях, дает читателю перевода смутное (и приятное) ощущение, что он прочел роман на французском. Когда умение читать по-французски было важным признаком культурного превосходства, такое ощущение могло принести большое удовлетворение.
Выборочная или декоративная форенизация возможна только при переводе между языками со сложившимися связями. В течение многих столетий знание французского в англоязычном мире было неотъемлемой частью хорошего образования, поэтому в словарный запас образованного носителя английского входил целый ряд французских выражений. Они просто сигнализировали: «Это французский!» — и (как приятное следствие) «Я понимаю по-французски!» Это повышало самооценку читателя, даже если он уже позабыл точные значения таких слов, как parbleu[16] или ma foi[17]. Когда знание французского было признаком принадлежности к образованному сословию, менее образованные англичане читали французские романы в переводе отчасти и для того, чтобы приобщиться к культурным ценностям элиты. Чем больше в переводе с французского оставалось французских выражений, тем лучше удовлетворялись потребности таких читателей.
С русским и немецким так уже не поступишь. В наше время их учат разве что небольшие группы студентов. Знание одного из этих языков или даже обоих не имеет отношения к культурной иерархии в англоговорящем мире — оно просто означает, что вы филолог или, может быть, астронавт, или инженер-автомобилестроитель.
Что же может послужить знаком русскости или немецкости в англоязычном тексте? Стандартные решения этой головоломки не идут дальше культурных стереотипов, сложившихся в англоговорящем мире под влиянием исторических связей, иммиграционных волн и популярных произведений времен холодной войны, типа «Доктора Стрейнджлава». Однако, если следовать рекомендациям Д’Аламбера, то нужно попытаться заставить Кафку и Гончарова звучать как иностранцы (каковыми они, безусловно, и являются), «украшая» переводной язык их произведений чертами, не свойственными английскому.
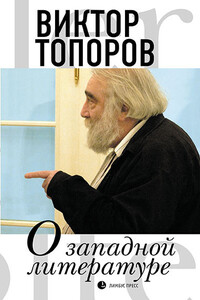
Виктор Топоров (1946–2013) был одним из самых выдающихся критиков и переводчиков своего времени. В настоящем издании собраны его статьи, посвященные литературе Западной Европы и США. Готфрид Бенн, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Генри Миллер, Грэм Грин, Макс Фриш, Сильвия Платт, Том Вулф и многие, многие другие – эту книгу можно рассматривать как историю западной литературы XX века. Историю, в которой глубина взгляда и широта эрудиции органично сочетаются с неподражаемым остроумием автора.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
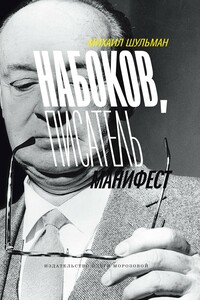
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.