Что за рыбка в вашем ухе? - [17]
The positive and the classical sciences of writing are obliged to repress this sort of question. Up to a certain point, such repression is even necessary to the progress of positive investigation. Beside the fact that it would still be held within a philosophizing logic, the ontophenomenological question of essence, that is to say of the origin of writing, could, by itself, only paralyse or sterilise the typological or historical research of facts.
My intention, therefore, is not to weigh that prejudicial question, that dry, necessary and somewhat facile question of right, against the power and efficacy of the positive researches which we may witness today. The genesis and system of scripts had never led to such profound, extended and assured explorations. It is not really a matter of weighing the question against the importance of the discovery; since the questions are imponderable, they cannot be weighed. If the issue is not quite that, it is perhaps because its repression has real consequences in the very content of the researches that, in the present case and in a privileged way, are always arranged around problems of definition and beginning[22]{27}.
Мы знаем, что содержание этого трудного для восприятия отрывка не связано с тем, звучит он по-английски или нет — песенка Челентано уже показала нам, что фонетического подобия английской речи можно достичь с помощью совершенно бессмысленного набора звуков. Однако есть один момент, который указывает на перевод с французского: неестественное употребление множественного числа слова research, отражающее естественное употребление похожего французского слова recherches. Ясно, что заметить это может лишь читатель, знающий не только английский, но и французский: иностранность researches неочевидна для знающего только английский читателя, который может выдвинуть собственную гипотезу для его объяснения или счесть слово специальным или техническим термином, характерным для данного автора. Но если читатель двуязычен и к тому же знаком с французской философской терминологией, то слово positive, предшествующее слову researches, вносит полную ясность. Двуязычный читатель легко поймет, что positive researches соответствует оригинальному словосочетанию recherches positives. Другой вопрос, что это словосочетание значит: это стандартный перевод на французский английского выражения empirical investigation.
Мы можем сказать, что positive researches — это плохой перевод стандартного французского оборота, с которым переводчик обошелся как с чем-то иным. А можем увидеть в нем аутентичный отзвук оригинала. В действительности, если английская фраза не кажется неестественной, мы и не заметим, что она содержит какие-то следы неанглийскости. Но так же верно, что мы не увидим в ней аутентичного французского, если французский нам не знаком.
Обратный перевод иноязычия positive researches на ряд других языков, включая новогреческий, приведет к тому же результату, то есть позволит идентифицировать его значение с empirical investigation. Если не знать, что перевод сделан с языка А, то стратегия форенизации сама по себе не позволяет читателю определить, с какого именно языка был сделан перевод.
При форенизации перевода английский текст начинает отражать определенные узкие аспекты исходного языка, такие как порядок слов или структура предложения. Но для создания эффекта форенизации переводчики опираются на уже имеющиеся у читателя знания о форме и звучании иностранного языка; в случае с приведенным выше переводом текста Деррида, выполненным Гаятри Чакраворти Спиваком, — о специальных словарных выражениях иностранного языка.
Представьте себе роман, переведенный, например, с хинди, где есть три способа сказать you[23]: tu, tum и ap, соответствующие задушевному, приятельскому и формальному общению. Выбор того или иного местоимения — важная характеристика взаимоотношений между персонажами нашего воображаемого романа. Может ли переводчик создать в английском лингвистическую аномалию, отражающую тройственное использование you? Конечно. Но поймем ли мы, что это отзвук хинди? Только если переводчик сделает соответствующее примечание — ведь мы-то хинди не знаем.
Поскольку переводы преимущественно делаются между языками, носители которых связаны между собой в области культуры, экономики и политики, то для отражения иноязычия — и престижности — заграничных текстов часто заимствуют формы или лексику исходного языка. В XVI веке, например, с итальянского на французский было переведено множество литературных и философских текстов — точно так же как для украшения французских дворцов и замков принято было приглашать итальянских мастеров. Тогдашние переводчики на французский так и сыпали итальянскими терминами и оборотами, потому что считали их известными или необходимыми французским читателям. Более того: они считали, что французскому языку пойдет на пользу, если он станет слегка похожим на итальянский. По правде говоря, этот процесс «обыталивания» французского продолжается и по сей день. Caban (бушлат) или caleçon (трусы) у вас в шкафу, а если повезет —
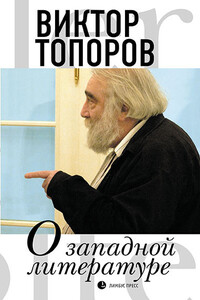
Виктор Топоров (1946–2013) был одним из самых выдающихся критиков и переводчиков своего времени. В настоящем издании собраны его статьи, посвященные литературе Западной Европы и США. Готфрид Бенн, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Генри Миллер, Грэм Грин, Макс Фриш, Сильвия Платт, Том Вулф и многие, многие другие – эту книгу можно рассматривать как историю западной литературы XX века. Историю, в которой глубина взгляда и широта эрудиции органично сочетаются с неподражаемым остроумием автора.

Так как же рождаются слова? И как создать такое слово, которое бы обрело свою собственную и, возможно, очень долгую жизнь, чтобы оставить свой след в истории нашего языка? На этот вопрос читатель найдёт ответ, если отправится в настоящее исследовательское путешествие по бескрайнему морю русских слов, которое наглядно покажет, как наши предки разными способами сложения старых слов и их образов создавали новые слова русского языка, древнее и богаче которого нет на земле.
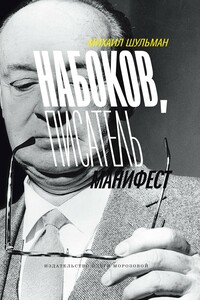
Набоков ставит себе задачу отображения того, что по природе своей не может быть адекватно отражено, «выразить тайны иррационального в рациональных словах». Сам стиль его, необыкновенно подвижный и синтаксически сложный, кажется лишь способом приблизиться к этому неизведанному миру, найти ему словесное соответствие. «Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все». «Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы.

Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне принятого и самого простого языкового подхода к разделению на «правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».

Наталья Громова – прозаик, историк литературы 1920-х – 1950-х гг. Автор документальных книг “Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы”, “Распад. Судьба советского критика в 40-е – 50-е”, “Ключ. Последняя Москва”, “Ольга Берггольц: Смерти не было и нет” и др. В книге “Именной указатель” собраны и захватывающие архивные расследования, и личные воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины Цветаевой “Дом у старого Пимена” и где находился дом Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; рассказывает о драматурге Александре Володине, о таинственном итальянском журналисте Малапарте и его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в “Советской энциклопедии” создавался уникальный словарь русских писателей XIX – начала XX века, “не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне”.