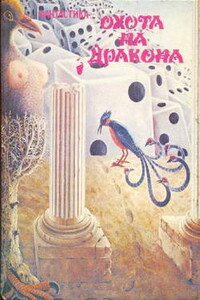Четвертое измерение - [27]
Она сжала мою руку, и в этом горячем рукопожатии я уловил решимость продолжать то, что началось между нами какое-то время назад, еще энергичней и рискованней. После моего выздоровления все должно было бежать по старой колее. Малые и большие обманы, хитрость и притворство, но прежде всего неравенство в желании брать и давать, потому что она жаждала меня больше, чем я ее, потому что она меня, судя по всему, любила. Ничего такого я не мог сказать о себе, и именно это было постыдно и дурно.
Мне кажется, отец, что именно в ту минуту, когда она жарко стискивала мне руку, у меня родилась мысль хоть что-нибудь изменить. Именно тогда я сказал себе: больше так нельзя, что-то надо менять! Отец, один старинный писатель описал историю актера, который всю жизнь изображал чувства и страсти других людей. И под конец ему захотелось самому, не на театре, а на самом деле испытать то, что он до этого лишь представлял. И выбрал он самое трудное и самое тяжкое из всего: укоры совести. Он совершил преступление и стал ждать, прислушиваясь к своим чувствам. Велико же было его изумление, когда никаких угрызений совести он не ощутил, когда он вообще ничего не ощутил! Это полная желчи, жестокая и правдивая повесть. Укоры совести отнюдь не обыденное дело, хотя причин для них у людей немало. Кому охота терзать себя, когда вокруг столько соблазнов? Не думать, забыть как можно скорей — таков был и мой принцип, отец. Только в тот день я, как в зеркале, увидел себя без щадящего света, свободным от пустого тщеславия и самообольщения… В ту минуту мне невольно вспомнились молящие письма матери, ее корявый почерк, ее синтаксис, где фразы так часто начинаются с местоимений. Я почти рад, отец, что ощущаю угрызения совести самых разнообразных видов. Ну хотя бы то, что я не люблю ни Марту, ни какую-нибудь другую женщину, что на работе я размениваюсь на мелочи, что я уже забыл, что такое, собственно, я хотел доказать…
В больничной палате нас лежало только двое, это выглядело как поблажка нам обоим: мне и тому другому. Этот другой был молодой человек, моложе меня лет на пять, не меньше, член какого-то рок-ансамбля. Он попал в автомобильную аварию, но отделался несколькими переломами ребер, за секунду до этого лишив, жизни незнакомого человека, незадачливо спасавшегося от автобуса, который мчался с противоположной стороны. Об этом событии я узнал кое-что, когда молодого человека навестили родители, чинные и благородные, с изысканными манерами и умением вести разговор, выдававшим высокую образованность. Длинноволосого парня с могучими бицепсами и ногами, не умещавшимися на больничной койке, они нежно называли Дюрко. Когда они ушли, на его тумбочке осталось такое изобилие даров, что столик буквально ломился; покосившись на все это добро, парень недовольно хмыкнул. После минутного молчания у нас начался откровенный разговор. Юраю явно хотелось довериться кому-нибудь постороннему.
— Ничего нельзя было сделать, он прямо выпрыгнул у меня перед радиатором. Хорошо еще, что я сам сравнительно легко отделался. В конце концов, такие случаи теперь не редкость. Стоит заиметь машину, и не успеешь охнуть, как ты уже попал в передрягу… так ведь?
— Не знаю, — сказал я, хотя вполне мог бы и согласиться.
— У тебя нет машины? — удивился он. — Ты, видать, недолго редакторствуешь.
— Просто машины меня пока не интересуют.
— Сейчас самое время заинтересоваться! Классная вещь!
Тут он запнулся и даже покраснел.
— Я знаю, это ужасно, что он погиб, но я, что ли, его убил? Кто посмеет такое сказать? Стоит включить радио, развернуть газету… Вот, смотри… — Он открыл тумбочку, достал вчерашнюю «Вечерку» и несколько вырезок. Я мысленно подивился. Зачем ему это? Для того ли, чтобы убедить себя, что не только он, но и другие становятся виновниками трагедий? Или для оправдания? Когда его выписывали из больницы, он с усмешкой все это подарил мне.
— Бери, редактор, может, тебе эти бумажки пригодятся…
В мире появилось множество новых опасностей, отец, и моя травма это подтверждает. Жизни можно лишиться в высшей степени бессмысленно и странно. Вспоминаю, как у нас в деревне забивали свиней, зараженных чумой. (Нет, ты про это не знаешь, уже больше года мы с мамой жили одни.) Очевидцем одной смерти я не стал только потому, что не переносил зрелища забоя. Украсть огурец, стянуть в новом магазине самообслуживания пачку фруктовых драже или шоколадку с орехами — на это я еще был способен, но мягонькие руки, запятнанные убиением мошек, не давали мне пропуска в хлев, откуда в испуге разбегались все добродушные домовые моего детства. Я вспоминаю, как на дворе, ломая руки, стояла жена Гуляка. «Скажи, Лукашко, почему и наших тоже, ведь они здоровые?! Боже мой, всех коровок, всех свинок, где это видано?..» Повсюду раздавался топот, крик, хрипенье, выстрелы, просторный двор Гуляка превратился в место кровавой бойни. Я убежал домой. А потом по деревне разнеслась весть, что один заряд случайно поразил глазевшего мальчишку-цыгана. «Подумаешь, какое дело, их особенно не убудет», — говорили некоторые. На другой день мы с холма над цыганским поселком наблюдали, как бродячий перекупщик вылезает из своей побитой «шкоды», подставляя солнцу синюшное, испитое лицо. Он поднял капот и обнажил коровьи внутренности старой машины, живой мотор, сплетенный из серых и перламутрово-белых кишок, желудков, легких и даже желтых, с извилистыми прожилками глаз. Вокруг него тотчас же стали собираться цыгане, к небу поднялся певучий гомон, засверкали зубы в насмешливых ртах. Ох, как же он ошибся, как поторопился приписать им собственное бесстыдное корыстолюбие! Он наклонился, хотел что-то вытащить из своего товара, и на его затылок обрушился первый удар. Кольцо фигур вокруг него стянулось, как большая петля, заволновалось, выдало глубокий стон высвобождающейся злобы. Мы видели, как он рухнул им под ноги, и пыль поднялась столбом над местом его падения, как судорожно дергался всем телом, протягивая руку к приоткрытой дверце «шкоды». Люди в улочке, по которой он полз к машине, сдирали с его тела одежду и кожу, награждали тумаками, пинали. Боль и ужас придали ему силы, помогли вскарабкаться на сиденье. Он нажал на стартер и на третьей скорости рванул навстречу вопящей толпе. Цыгане разлетелись во все стороны, как стайка воробьев, машина подпрыгивала на камнях и ухабах, из ее раззявленного багажника вывалилась на землю толстая членистая кишка, на минуту она ожила, извиваясь как змея, потом успокоилась на краю дороги. Мы побежали вниз, к шоссейке, и, когда «шкода» пропыхтела мимо нас, мы увидели за рулем окровавленное, ошалелое лицо. В день похорон убитого цыганенка один дом в деревне охранялся солдатами. Вечером сквозь редкий забор из штакетника я видел в доме хмурого мужика за кухонным столом, при свете низко висящей лампы он жадно заглатывал куски мяса и хлеба. Думал ли он о долгом следствии, о смерти, причиной которой стал, или, может, о том, что ему стоит — как советовали люди — продать дом и уехать в другие места?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой романа анализирует свою жизнь через призму болезненного увлечения футболом. Каждое событие в его жизни прежде всего связано с футбольным матчем любимого «Арсенала», ведь он Болельщик, каких поискать, и кроме футбола в его жизни нет места ничему другому.В романе масса отсылок к истории игр и чемпионатов второй половины 20 века, но, несмотря на это, книга будет интересна не только болельщикам. Ведь на этом примере писатель рассказывает о роли любого хобби в жизни современного человека – с одной стороны, целиком отдавшись любимому увлечению, герой начинает жить оригинальнее и интереснее обычных смертных, с другой, благодаря этой страсти он застревает в детстве и с трудом идет на контакт с другими людьми.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.