Четвертая Вологда - [9]
Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать Хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.
Но дома хлеб подавался только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.
Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания — уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.
И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.
Эти золотые часы — американский полухронометр — хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гирями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.
Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы — не золотые, а только позолоченные — это тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь — были со мной на Колыме, после освобождения, и вернулись в Москву, и живут до сих пор у меня[9].
IV
Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я — из семи человек[10], в казенном соборном доме для причта — старинной постройки, охраняемой государством сейчас — дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.
Устраивал он отца не только по своим архитектурным качествам.
Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаяний во время «славленая», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой, стороне поповской жизни не обращались — отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.
Вторым достоинством этой службы была близость к реке— от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец — рыбак и охотник — считал весьма важным. Недалеко был и базар.
При квартире во дворе стояли сараи — «дровеники» на ярком вологодском диалекте, — были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.
Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.
Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты — ни в детстве, ни в молодые годы.
Позднее, я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имеют отдельные комнаты.
Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне своим детским разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.
По резкому звонку — электричества в доме нашем не было — открывалась обитая клеенкой дверь «парадного», и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться «парадным» для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколота визитная карточка отца.
Дверь эту я вспомнил по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой, навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы. Вихри метелей кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.
Другая причина та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец — палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.
Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца.
В прихожей, где, впрочем, нам (или мне) не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в зало. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось — для детей было открыто только черное крыльцо.
Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме — свет доходил только через дверь, ведущую в зало, и дверь, ведущую на кухню, — но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой — тогда зажигали лампу — пятилинейку, вешали на стену. Мы. действовали в шкафу наощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.
Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение «паблисити».
В шкафу висела повседневная одежда отца — хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя.
Второй шкаф был отведен для домашних вещей нашей остальной семьи — мамино пальто, Наташино, Галино, а также одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикасаться нам к отцовскому шкафу, именуемому «гардероб», запрещалось.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
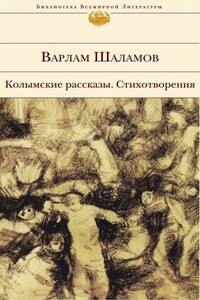
Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.В состав книги вошли «Колымские рассказы», принесшие писателю мировую известность, а также «Колымские тетради», составляющие его поэтическое наследие.
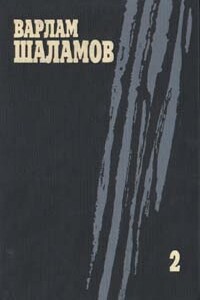
Варлам Тихонович Шаламов (1907 — 1982) не увидел изданными свои колымские рассказы. Трагическая судьба — двадцать лет тюрем и лагерей — надолго отодвинула знакомство читателя с его прозой.

В своей исповедальной прозе Варлам Шаламов (1907–1982) отрицает необходимость страдания. Писатель убежден, что в средоточии страданий — в колымских лагерях — происходит не очищение, а растление человеческих душ. В поэзии Шаламов воспевает духовную силу человека, способного даже в страшных условиях лагеря думать о любви и верности, об истории и искусстве. Это звенящая лирика несломленной души, в которой сплавлены образы суровой северной природы и трагическая судьба поэта. Книга «Колымские тетради» выпущена в издательстве «Эксмо» в 2007 году.
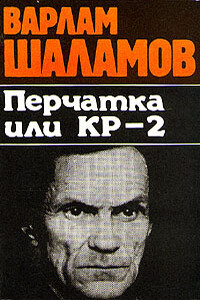
Имя писателя Варлама Шаламова прочно вошло в историю советской литературы. Прозаик, поэт, публицист, критик, автор пронзительных исповедей о северных лагерях — Вишере и Колыме. В книгу вошли не издававшиеся ранее колымские рассказы «Перчатка или КР-2».
