Через не могу - [13]
Мне нужно было пройти с завязанными глазами по всей длине коридора, не наступив, естественно, ни на одну ногу. «Поднимай повыше колени, — прошептала учительница, завязывая мне глаза и нос душным шарфом, а то заденешь за их ботинки. Не бойся, не бойся, только старайся. Я тебе буду подсказывать, куда ступать…» И вот в полной темноте, холодея, делаю первый осторожный шаг — пусто, пронесло… Второй… «Правее, правее, — кричит учительница, и я впервые слышу, как мальчики смеются. Чему они там смеются? «Давай, давай! Не бойся! Вот молодец, так молодец!»
В конце коридора меня, взмокшую от усилий, приняла другая учительница, развязала глаза и поздравила с боевым крещением. Я лопалась от гордости, хотя, оглянувшись на переплетение ног, мимолетно изумилась собственной ловкости. Все хихикали и аплодировали. С достоинством мастера спорта я села в конец ряда. Мальчики уже казались симпатичнее, учительницы — просто прелесть. Наверху уютно погромыхивало (помню беспечный тон, которым всегда говорилось: «Это далеко-о, не в нашем районе»), впереди был остаток дня в теплой канцелярии, новая картинка для раскрашивания, подаренная директором школы…
Наступила очередь второго новенького. Его вывели из медкабинета, и он растерянно взглянул на полсотни косточек, которые ему предстояло переступить. «Не бойся! — надрывалась я. — Я запросто прошла!» — «Она прошла!» — смеялись мальчики. И эхо: «Ла–ла!» И вот ему завязали глаза. «Раз, два, три!» — скомандовала учительница, как и мне. И тут она сделала знак рукой, и все бесшумно убрали ноги — только мои остались лежать на полу. «Давай, не бойся! Левее–правее!» И новичок, идиотски задирая колени, балансируя и с незамеченной от возбуждения соплей под носом, затанцевал, как страус, по пустому коридору. Я не знала, плакать мне — и тем выразить истинные чувства, или смеяться — чтобы не показать их. И конечно, как и всегда потом в жизни, выбрала второе…
А тут и бомбежка кончилась (как написал бы Лев Толстой в своих сказках).
Реакции моих женщин на смерть деда были характерными: бабушкина — спасаться, материнская — страдать. Она и выбрала — донорство. Тогда многие этим занимались, потом, кстати, десятилетиями не могли отвыкнуть и без этого даже плохо себя чувствовали.
Однажды (само собой, зимой и вечером) мы с холода вошли в парадное, где стены и лестница были такими же серыми и обшарпанными, как в любом другом, но где было тепло! и горел свет (аварийный, конечно. Вообще не только война, но и все детство прошло в полутьме, поэтому ярко горевшее электричество — во Дворце пионеров, например — всегда казалось роскошью). Лестница была узкой, как в обычном жилом доме. Мать оставила меня на площадке, наказав ждать, не сходя с места («если что — ори»), подбодрила улыбкой, все еще белозубой, и ушла в дверь направо.
«Зал ожидания» — что за эклектическое выражение! Какая–то помесь эллинского с орвелловским. Вообще же больше всего приходилось ждать в коридорах — темноватых и холодноватых, как чистилище. В преддверии ада — кабинета зубного врача, например. Дети ждали больше всех, постарше — уткнувшись в книги. Это вырабатывало в наших характерах чугунную мечтательность, замедленные реакции, пассивность… Революция, Николас, вывела русских «Детей подземелья» из подземелья и поставила в очередь.
…На лестничной площадке, где я тихонько грезила, шаркая спиной по грязной стене, вдруг наступило неприятное безлюдье, и я занервничала. Прошли, вероятно, четверть часа, от беспокойства выросшие в «долго»… Неожиданно дверь справа (куда все ушли) распахнулась, и сердце мое остановилось — из дверей стали по одному выходить потусторонние существа в белом. Белым закрыты были даже ступни ног, головы и пол–лица. Оставались только глаза и кисти рук. Они шли быстро, гуськом, не обгоняя друг друга. За дверью все по очереди делали одинаковый шаг в сторону, дотрагивались до стены, потом шаг обратно в свой потусторонний строй, и быстрым, бесшумным полубегом, цепочкой, через лестничную площадку — в дверь налево. Дверь мягко захлопнулась, и я так и не «заорала».
В следующие «долго» на лестнице не было ни души, и я маялась, и маялась, подвывая от тревоги. Наконец левая дверь открылась, и оттуда снова пошли белые, но на этот раз уже по–человечески, разболтанно, иногда парами… Даже слышно было бормотанье. Только тут я сообразила, что это и есть «доноры» и среди них — мама, но как ни вглядывалась, узнать не могла. Вдруг один отделился от строя и шагнул ко мне. Я отшатнулась, но белая рука поймала мои пальцы и впихнула в них марлевый пакетик. Вгляделась в глаза под маской — не мама, но явно женщина. Глаз подмигнул. Я облегченно засмеялась, кровь прилила к щекам… но «спасибо» сказать забыла, и это долго потом портило мне радость от чужой доброты. А в марле оказался осколочек глюкозы.
Мирная домашняя жизнь проходила вечером у буржуйки. Уже в темноте мы с бабушкой возвращались домой после очередей и «отоваривания продуктовых карточек» (вечной памяти Осипа), и по дороге она всегда рассказывала мне поучительные истории про детей, эти карточки потерявших. У бабушки, бесспорно, был талант заронить в детскую душу страх и робость — гарантии послушания. Метод простой — несколько конкретных запоминающихся деталей, которые при всей их безвкусности и примитивности, остаются вовпечатлительном детском сознании на всю жизнь, как осколок, недоступный скальпелю: «…A девочка так испугалась, что потеряла карточки, что залезла под кровать, а мать ее оттуда — чугунной кочергой. Потом устала сердиться и говорит: ’Ну, вылезай уж, все, не буду больше наказывать…’ А девочка–то молчит и не шевелится. Мать потянула за валенок, валенок снялся, и оттуда карточки–то и выпали»; «…Они как раз поднялись уже к своей двери, мать и спрашивает: ’А где карточки?’ А девочка вспомнила, что забыла карточки в магазине, да как побежит вниз по лестнице, и со всего бегу–то и упала. А ступени–то каменные, так мозг, говорят, так и брызнул… Никогда по лестнице не бегай! Что бы ни случилось, иди спокойно, держась за перила». (И можете поверить, я никогда не бегала по лестницам. Так и вставали перед глазами бабушкины живые картинки, и я сама судорожно хваталась за перила… за руку… за подол)…

В подборке рассказов в журнале "Иностранная литература" популяризатор математики Мартин Гарднер, известный также как автор фантастических рассказов о профессоре Сляпенарском, предстает мастером короткой реалистической прозы, пронизанной тонким юмором и гуманизмом.
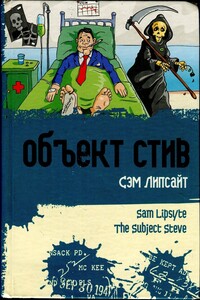
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.
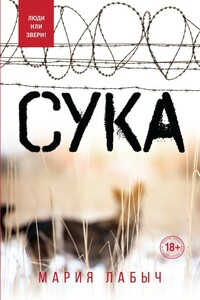
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».