Через не могу - [11]
Вообще ее слепота к чувствам была поразительна. Мы приходили из кино, уже после войны — мама мрачная, с крепко сжатым ртом, я — опухшая от слез. Бабушка приветлио спрашивала:
— Что смотрели?
— «Рим — открытый город».
— Красивая вещь?
Пьесы Чехова, например, бабушку страшно раздражали: «И ноют, и ноют… — говорила она. — И чего ноют? Все, слава Богу, живы–здоровы, одеты- обуты… Войны нет, все хорошо!»
Нет, нет, она была доброй. Она помогала в беде, откликалась на понятные ей реальные несчастья. На чувства — никогда. Они с мамой, как два ангела- хранителя, стояли за моими плечами: ангел–хранитель тела и ангел–хранитель души. На двух противоположных концах колеблющейся шкалы, мама — чистого принципа, бабушка — чистого прагматизма.
Капитан Галкин никогда больше не появился. Мама думала трагически и возвышенно — потому что убит, бабушка — приземленно — потому что бежал с часиками.
Надо сказать, что в коммунальной квартире именно бабушка, единственная, всегда была признанным арбитром. И как раз потому, я думаю, что действовала не по справедливости, а по доброте, то есть чутьем определяла, где кто уступит, и таким образом склоняла всех к мировой.
Я помню, что бабушкина беспринципность начала терзать меня довольно рано. И вот вам одно из моих первых разочарований.
Однажды (зимой и вечером) в дверь нашей комнаты поскреблись, и после кодовых вопросов бабушка впустила маленького Гарри Свинтусова. Мало ему было, что он Гарри — при рождении неначитанная паспортистка написала в его метрике вместо Гарри — Гарий (по аналогии с Юрием и Макарием?). Родители послушно и церемонно называли его Гарий, взрослые — Гарик, а сверстники
— Гарька. Бабушка относилась к Гарику брезгливо, хотя он был чистым и добродушным мальчиком. По–моему, ее отвращало даже не его плебейское происхождение, а то обстоятельство, что Гарик не мог выучить ее полного имени — Агриппина Галактионовна. И каждый раз — сотни за мою жизнь — когда он простецки называл ее «тетя Апа», она неизменно бормотала: «Тоже мне, племянник нашелся».
На этот раз Гарик сказал то, что рано или поздно говорили все блокадные дети (кроме счастливчиков): «Тетя Апа, мамка с работы не пришла». И заплакал. Выяснилось, что мать Гарика в больнице для дистрофиков (его отец умер первым в нашей квартире — слишком доверял газетам и ничего не запас), а самого Гарика определят в детский дом. Попросили подержать его у нас несколько часов.
Накануне мама, в несчетный раз, дочитала мне любимую книгу «Леди Джэн, или Голубая цапля», где в такой же вот ситуации сиротства бедная, но добрая семья приютила маленькую оборванку, не зная, конечно, что она потерявшаяся аристократка и что всех ждет хэппи энд. И я стала горячо просить бабушку оставить Гарика жить у нас (хотя он как–то явно не укладывался в нашу жизнь). Бабушка, пойманная врасплох, не успевшая подготовить лжи во спасенье, сердитым шепотом останавливала эти мольбы. Бедный Гарик сидел у буржуйки. Дотрагиваться до него мне было категорически запрещено — чтобы на меня не переползли его вши… Маленький пария: зеленовато–белое лицо, а шея
такая слабая и длинная, что голова не держалась, и время от времени он ронял ее на плечо, как младенец. Мне все хотелось дать Гарику понять, что его отправляют в детдом — детский синоним слову катастрофа — не из–за меня, а из–за бабушки, но предавать «своих» по маминому кодексу «хорошо- плохо» было низостью, и я только пихала Гарику не самые любимые игрушки. А когда бабушка вышла из комнаты (грозящим пальцем напомнив не прикасаться, упаси Боже…), Гарик вдруг сказал вяло и взросло: «А, не переживай, я все равно помру». Все смотрел и смотрел на огонь в печурке, пока его не увели. А игрушкй забыл.
Потом у нас с бабушкой, естественно, была ссора, одна из немногих, в которых бабушка сказала осмысленную тираду законченным предложением.
Когда я, рыдая, ее заклеймила: «Если бы не ты, моя мама взяла бы Гарика!», бабушка жестко ответила: «Если бы не я, твоя мама легла бы на оттоманку, обняла бы тебя, и вы бы обе умерли». И это была чистая правда.
Я думаю, детская память безжалостна, как приблудная дворняжка — немедленно выделяет в семье вожака. Иначе я бы запомнила деда («Дед тебя обожал»). Из рассказов бабушки он, разумеется, встает человеком, говорившим одни банальности: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи»; «Никогда не одалживай денег друзьям — потеряешь и друзей, и деньги», и все в таком роде. Впрочем, это, кажется, с его легкой руки темный чулан с барахлом в нашей квартире стали называть «жилплощадью»…
Блокадного деда я помню словно в одной сцене — он лежит на оттоманке с вялой улыбкой, а я прыгаю на нем верхом, и его покорность и слабость разогревают мой энтузиазм. И бабушкино «Оставь деда в покое» звучит как «Не мешай деду умирать»…
Потом в какое–то минутное пробуждение среди ночи — бабушка держит полысевшую дедову голову у себя на локте, как ребенка, и поит его из заварочного чайника, прямо из носика… Тревога этой неестественной сцены… И мама, которая почему–то оказывается у нас в комнате, говорит: «Ш-ш, спи, спи… дедушке просто нехорошо, сейчас пройдет…»
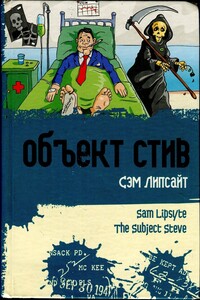
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.
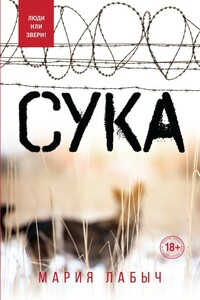
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».