Чехов - [7]
Он любил читать наставления, проповедывать истинны, укладывающиеся в выразительные формулы. Совсем как «наш директор», о котором вспоминает Кулыгин в чеховских «Трех сестрах». «Наш директор говорит, — главное во всякой жизни — это ее форма. Что теряет свою форму, то кончается — и в нашей обыденной жизни то же самое».
А вот красочный эпизод и с Рейтлингером, который, конечно, вспомнился Чехову, когда он писал своих «Трех сестер». «Прибыв в 1873 году в гимназию и встретив учеников старших классов в довольно непринужденном виде, он отрекомендовался, заметил, что у них длинные волосы, усы не сбриты и мундиры расстегнуты, и сказал: «Гимназисты с первого взгляда должны обращать на себя внимание привлекательностью, строгостью своей внешности. Мне неприятно в молодом человеке щегольство, но неряшливость и растрепанность еще более противны, а потому, чтобы сохранить середину, вы должны быть приличны. Я вас уверяю, это имеет большее значение, чем вы думаете».
Ну, конечно, «что теряет свою форму, то кончается!»
Об этом же Рейтлингере вспоминает и школьный товарищ Чехова — В. Г. Тан-Богораз (Тан-Богораз Владимир Германович (род. в 1854 г.). Писатель, этнограф, исследователь Севера. Автор «Колымских», «Чукотских», «Американских» рассказов, очерков «В тундре», о «Духоборцах в Канаде» и др. Учился в той же таганрогской гимназии, что и А. П. Чехов. Его статьей «На родине Чехова» («Современный мир» 1910, кн. I, также «Чеховский юбилейный сборник», М. 1910) мы пользуемся в главе о таганрогской гимназии и учителях Чехова): «Эдмунд Рудольфович Рейтлингер, немец из истинно-русских, строго консервативных взглядов. В 1876 году он получил чин действительного статского советника. После этого с ним стало легче ладить. Стоило только в трудную минуту ловко ввернуть: «Ваше превосходительство».
Рейтлингер относился, надо заметить, чрезвычайно внимательно к Антону Чехову, а его брат Александр, учеником последних классов, жил у директора на квартире.
Среди педагогов Таганрогской гимназии колоритную фигуру представлял инспектор Дьяконов. Строгий службист, строгий к самому себе и другим людям. Молодых учителей поучал и даже распекал с большей смелостью, чем директор. Очень не любил молодых либералов. Из его изречений можно было бы составить огромный кодекс морали. Каждый его поступок, самый ординарный, каждое его слово было согласно выработанному им правилу, которым он руководствовался и которому не изменял. Он всегда говорил поучениями и наставлениями: «Коль скоро вы не в силах создать нового, не разрушайте старого». «Прежде узнайте жизнь, а потом отрицайте устои, а то узнаете, да поздно». Или: «Коль скоро копейка общественная, она должна быть на счету». Эти изречения пародированы Чеховым в рассказе «Учитель словесности»: преподаватель географии Ипполит Ипполитыч изрекает здесь такие истины: «Волга впадает в Каспийское море». «Лошади кушают овес и сено». «Спать в одежде не гигиенично» и т. д.
В похвалу Дьяконову сказано у историка гимназии Филевского, что он ни одного доноса не написал, хотя, занимая должность инспектора, мог сделать это легче, чем кто-нибудь. Был он человеком с хорошими средствами, избирался гласным городской думы и отличался большой придирчивостью, контролируя действия управы. Состоял Дьяконов и старшиной клуба. На этом поприще у него произошел инцидент, чрезвычайно выразительный для нравов провинциального города. «Во время балов в дамскую уборную ставилось много пудры, булавок, шпилек, мыла и других мелочей для дамского туалета и все это в изобилии. Случилось так, что во время одного бала дежурным старшиной был Дьяконов. Он подсчитал, сколько, примерно, бывает на балах дам, и отпустил на это высчитанное количество парфюмерии, приказав прислуге, чтобы все остатки были ему сданы, и чтобы не позволяли дамам забирать с собой домой шпильки, булавки и прочее». Это вызвало целую революцию: «дамы подняли протест и правление клуба уже старалось устраивать так, чтобы дежурство Дьяконова не падало на вечера с танцами».
Дьяконов завещал свои дома под начальные училища, а капитал — в размере семидесяти тысяч рублей — на ежегодную выдачу пособий учителям школ.
А вот в галерее портретов чеховских учителей — чудак из дореформенного поколения педагогов — Иван Федорович Крамсаков, о котором часто вспоминает в письмах А. П. Чехов. Личность вполне архаическая. Его лексикон состоял из эпитетов — дурак, осел, скотина. Он преподавал географию, а в младших классах арифметику. Арифметике обучал он так: ученики вызывались к доске решать задачи в порядке алфавита, а задачи шли по одному и тому же учебнику, в порядке нумерации, и каждый ученик, зная, какая задача ему придется, был уже заранее готов к ответу. Крамсаков был чем-то похож на китайца и прозвище у него было «китайский мандарин».
Чудак за чудаком! Вот Павел Иванович Вуков — классный наставник Таганрогской гимназии, прослуживший в ней пятьдесят лет и переживший А. П. Чехова. У него были две слабости, которыми умело пользовались ученики: считал себя неотразимым покорителем дамских сердец и любил «к былям небылицы без счета прилыгать». Его часто можно было видеть гуляющим в коридорах гимназии, окруженным толпою гимназистов, с которыми он делился своими «победами». Он очень хорошо сохранил в памяти образ юного Чехова и рассказывал, что не раз приходилось ему отбирать у Антоши какие-то тетрадки, которые он читал вслух, вызывая хохот всего класса.
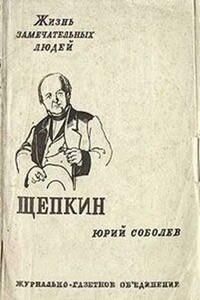
В настоящем издании представлена биография Михаила Семеновича Щепкина, великого русского артиста, одного из основоположников реализма в русском театре.
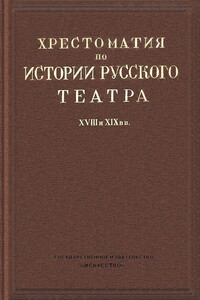
«„Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков“ представляет собой то первичное учебное пособие, к которому, несомненно, прибегнет любой читатель, будь то учащийся театральной школы или же актер, желающий заняться изучением истории своего искусства.Основное назначение хрестоматии — дать материал, который выходит за рамки общих учебников по истории русского театра. Следовательно, эту книгу надо рассматривать как дополнение к учебнику, поэтому в ней нет обычных комментариев и примечаний.Хрестоматия с интересом будет прочитана и широкими кругами читателей.
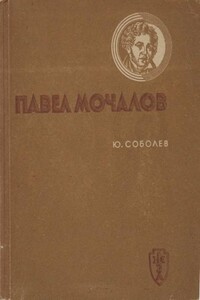
В настоящем издании представлен биографический роман о П.С.Мочалове (1800-1848), российском актере, крупнейшем представителе романтизма в русском театре.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.