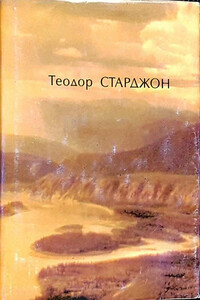Чехов - [9]
Да, Чехов как будто не любил, не понимал дела. Он не жаловал деятеля, который себя сознает и ценит, который суетится и хлопочет; он не сочувствовал строгой Лиде, которая бедным помогала вовсе не так грациозно и поэтически, как пушкинская Татьяна и благодаря которой «на последних земских выборах прокатили Балагина». Он не воспроизвел гармонии между делом и мыслью, и в конце жизни знаменитого профессора оказывается, что выдающийся ученый не имел общей идеи, бога живого человека, что дух его как будто не участвовал в искусной работе его знаний и таланта. Дело рисовалось Чехову в образе дельца, в неприглядном виде Боркина, антипода Иванову; дело символизировалось для него ключами от хозяйства, кружовенным вареньем, которое так удобно для экономического угощения и которое в конце концов пропадает, засахаривается, как у Варвары из «Оврага». В каждом деле он чувствовал неприятный оттенок суетности и низменности, привкус какого-то шумливого беспокойства, которое недостойно медлительной и величавой думы человека. И хозяйственности, делечеству он противополагал не деятельность, а безделие. Деловитость весела, жизнерадостна, пошла, как Боркин, или же она тупа своей «бездарной и безжалостной честностью», как доктор Львов или фон Кореи, а безделие изящно, меланхолично, задумчиво, и оно поднимает своих жрецов высоко над озабоченной толпою.
Но Чехов и сам чувствовал, как несправедливо такое распределение психологических красок; он сам сознавал, что не Боркиными ограничивается дело жизни и что далеко не все лишние люди – люди желанные. У него есть и случайные, правда, силуэты настоящих деятелей; например, не похож на Боркина и не похож на доктора Львова тот, другой, прекрасный доктор из «Беглеца», который притворной суровостью маскировал свою бесконечную доброту и ласку к бедному мальчику Пашке и, вероятно, ко всем бедным мальчикам на свете. И, что еще важнее, Чехов сам не раз карал себя за свое художническое пристрастие к тоскующим героям безделия и безволия. Ведь это он написал почти карикатурный образ Лаевского из «Дуэли», ведь это у него Иванов горько насмехается над своей «гнусной меланхолией», над игрой в Гамлета. Медлительной походкой идет чеховский Иванов по жизни, и от его мертвого прикосновения гибнут женщины; земля его глядит на него «как сирота», вся русская земля глядит на него как сирота и ждет не дождется его, своего немощного пахаря, – а он, ленивый и вялый, позорно жалуется на переутомление, на то, что поднял он бремя непосильное и не соблюл душевной гигиены. Он не только лишний. Он не кроток, как лишний Обломов; последний только сам лег в безвременную могилу, он никого не оскорбил, никого не убил, а Иванов в изможденное лицо своей умирающей жены бросил «жидовку» и бросил смертный приговор. И доктор Андрей Ефимович тоже не был деятелен: он много читал, он много думал, но в жизни не принимал участия и оставался равнодушным зрителем того, что делалось в палате N 6, где над стихийным ужасом люди воздвигли еще свое искусственное и ненужное страдание, поставили сторожа Никиту, «скопили насилие всего мира». Из-за того, что он не мог одолеть всего мирового зла и насилия, он и в окружающую жизнь не вносил ни крупицы посильного добра, и когда Иван Дмитрич, страстотерпец номера шестого, в минуту просветления мечтательно и трогательно говорил, что давно уже он не жил по-человечески, что хорошо было бы теперь проехаться в коляске куда-нибудь за город и потом полечиться от головной боли, – Андрей Ефимович в своем преступном неделании, подавленный рассуждениями, не свез бедного мученика за город подышать весною и не стал лечить его от головной боли… Вообще, Чехов самоотверженно показал в близком его сердцу лишнем человеке все, что есть в нем отрицательного и жестокого, все, что есть в нем злополучного для себя и для других. Чехов знал все, что можно сказать против лишних, – особенно там, где нужны столь многие, где нужно столь многое.
И все же иные его лишние в основном направлении и настроении своего духа выше полезных. Они погружены в неделание потому, что не спешат воспользоваться жизнью; они созерцают, они думают о ней, они чувствуют ее и тихо приближаются к ее фактическому содержанию – а торопливая жизнь между тем ускользает, и они оказываются ненужными, обойденными; и вишневые сады, и женские сердца переходят в другие, более расторопные и цепкие руки. Жизнь не терпит раздумья, созерцания, колебаний; нет, она говорит человеку: «Люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой». И непосредственные натуры жадно приникают к ней своими немудрствующими устами. В этом есть особая красота и мудрость, но это может вырождаться и в элементарную привязанность к текущей минуте, к одной только заботе и злобе дня; это – источник всяческого мещанства, пошлости и рутины. И кто спешит навстречу жизни, тот не станет думать о том, что будет через двести-триста лет, а лишние об этом грезят и тем возвышаются над жизнелюбивой толпой. Они не расчищают себе дороги в сутолоке человеческого действа, они не толкаются и не «размахивают руками». Они – аристократы духа, и в них таится благородное наследие датского принца. В траурных одеждах своей «тоски и думы роковой», не спеша, идут они среди торопящихся и, занятые своим внутренним миром, не замечают пестрого говора жизни. Воля, направленная на внешнее дело, дремлет у них; зато не умолкает раздумье и утонченное чувство, и, «прижавшись к праху в сознаньи горького бессилия», они тоскуют по высшей красоте и правде. Они не удовлетворены, и благо им за их великую неудовлетворенность! Они тяготеют к идеалу, к своей нравственной «Москве», и если, правда, не прилагают мощных усилий к тому, чтобы осуществить свои «бескрылые желанья», если из-за этого они недеятели, то уж во всяком случае они и не дельцы, не практики. На шумном торжище людской корысти, среди крикливых, и суетливых, среди расчетливых и умудренных они оказываются лишними людьми. Но как «премудрость мира – безумье пред судом Творца» и не Марфа, пекущаяся о многом, а Мария знает единое на потребу, так, быть может, на высшую оценку, некоторые из лишних Чехова окажутся наиболее нужными.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
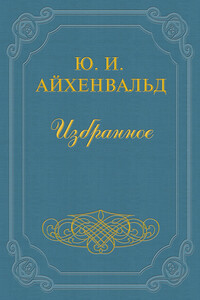
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
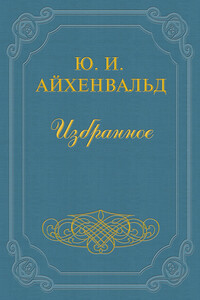
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
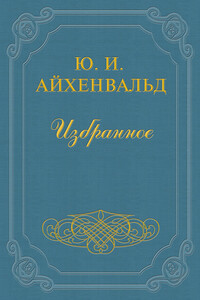
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».
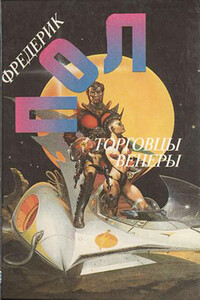
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.