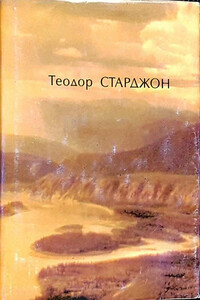Чехов - [8]
Чеховские лишние люди изнемогают под гнетом повторения, и в этом заключается их нравственная слабость. Ибо повторение еще не пошлость. И душа богатая на однообразность внешнего мира отвечает разнообразием внутренних впечатлений – непрерывно развертывается ее бесконечный свиток. Недаром Киркегор моральную силу человека понимает как способность и любовь к повторению. Для датского мыслителя в первом, эстетическом периоде жизни мы по ней порхаем, касаемся ее поверхности то в одной, то в другой точке, все пробуем, ничем не насыщаемся, бежим от всякой географической и психологической оседлости, в каждую минуту «имеем наготове дорожные сапоги»; мы требуем как можно больше любви, но не надо дружбы, не надо брака, и из всякой чаши сладостны только первые глотки. Этический же период характеризуется повторением, его символизирует брак, и тогда прельщает не пестрота и синева чужой дали, а своя родная одноцветность, и тогда душа становится глубокой в своей сосредоточенности.
Чеховские лишние герои не находят себе удовлетворения в этом втором периоде, не выдерживают искуса повторения, и жизнь протекает для них как осенний дождь, как удручающая капель. Они не умеют взрастить своего внутреннего сада и сиротливыми тенями идут по миру. Изнеможенные повторением, его не осилившие сменою внутренних обновок, они пускают свою ладью на волю жизненных волн, потому что их собственная воля бледна и слаба; она, «как подстреленная птица, подняться хочет и не может». И в жизни, кипящей заботами и трудом, они ничего не делают.
Чехов любит изображать людей неделающих. Неделание проникает у него в самые разнообразные слои общества и даже в такую среду, демократическую и рабочую, где ТРУД, казалось бы, является чем-то естественным и привычным. Студент Петя Трофимов зовет любимую девушку и всех людей к новой жизни, к новой работе, к необычайному ТРУДУ, но сам он никак не может кончить университетского курса, сам он ничего не делает и обидно беспомощен. Лишние герои Чехова не веруют в дело своей жизни и плетутся по ней с потушенными огнями.
Но только ли словом укоризны должны мы бросить в его неделающих людей? Или, быть может, их бездейственное отношение к миру имеет глубокий и глубокочистый источник?
К «неделанию» призывал нас еще раньше великий Толстой. Он не хотел, конечно, проповедовать лени, он не требовал от нас, чтобы мы праздно дожили бездеятельные руки и предоставили мир его собственному течению. Но Толстой говорил нам, что шумная сутолока дела, работы, профессии отвлекает нас от мысли о великом и важном. Подхлестываемые бичом нужды и реальных потребностей, мы бежим по земле, все время только строим жизнь, лепим из ее глины свои хрупкие поделки, но о ней не думаем; мы только воздвигаем подмостки для своей жизненной пьесы, и у нас уже не остается досуга и сил для того, чтобы сыграть ее самое. Нам некогда. В суете своего повседневного занятия и муравьиного строительства мы не размышляем о его последней цели и не предаемся бескорыстному созерцанию. И на закате наших торопливых дней окажется, что, погруженные в свое дело, мы ни разу не взглянули жизни в ее мудрые, в ее загадочные глаза, и мы уйдем из мира без миросозерцания, уйдем в тягостном недоумении перед его смыслом и тайной. Зачем же дело без думы, зачем и куда мы спешили, во имя чего мы работали не покладая рук и, склоненные к земле, никогда не смотрели в небеса?
Бесспорно, что подобные мысли о мудром неделании должны были жить в созерцательной душе Чехова, и потому он отворачивался от «ненужных дел», из-за которых жизнь становится «бескрылой». Устами своею художника он требует, чтобы все люди имели также время «подумать о душе, о Боге, могли пошире проявить свои духовные-способности». Он любит «умное, хорошее легкомыслие», он рад за чудного старика о. Христофора, никогда не знавшего ни одного такого дела, «которое, как удав, могло бы сковать его жизнь». «Счастья нет без праздности; доставляет удовольствие только то, что ненужно».
Среди жизненной практики отыскивает Чехов непрактичных. Непрактичность способствует усилению чувства жизни как жизни, интереса к ней, к самому процессу ее бескорыстного течения, потому что возникает чистейшая, платоническая, детская радость бытия, независимо от его содержаний, и любуешься на мир, как его благосклонный зритель, и вдыхаешь в себя живительный воздух Божьих дней…
Кроме того, делают деятели, но делают и дельцы. Чехов ценен тем, что он не любит в человеке дельца. Он презирает «деловой фанатизм», который заставляет не только дядю Егорушки, но и богатого Варламова озабоченно «кружиться» по степи, между тем как эта степь исполнена такой волшебной красоты, таких несравненных очарований. Но за отарами овец, за туманом житейских расчетов ее не чувствуют, не замечают, природы не видят, пейзажем не любуются, и обиженная степь, тоскуя, сознает, что «она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!». Поэт Чехов услышал этот призыв и воспел ее дивными словами, но что же большего может он сделать? – и степь все еще находится в плену у плантаторов и практиков, у Варламова, у тех, кто кружится по ней в деловой пляске хозяйственной заботы.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
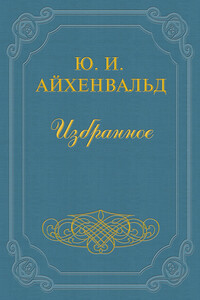
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
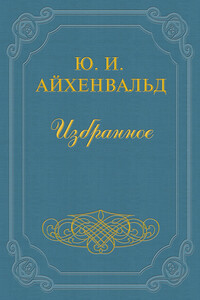
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
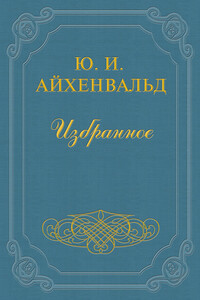
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».
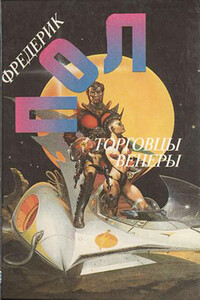
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.