Часть 1. Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии - [5]
В отличие от Западной Европы, сумевшей к началу второго тысячелетия укрепить свои основные рубежи и приступить к интенсивному освоению окраин, ведущие страны Востока испытывали периодически возраставший натиск со стороны обширной периферии (степи, полупустыни, пустыни), которую при тогдашнем уровне военной технологии было практически невозможно эффективно контролировать.
Последствия опустошительных набегов и завоеваний кочевников трудно даже представить себе сегодня. К примеру, монголы в XIII в. и маньчжуры в XVII в. уничтожили в ходе установления своего господства соответственно 1/3 и 1/6 часть китайского населения. Разрушение эффективных, но весьма хрупких производительных сил стран Востока, например, ирригационных сооружений, без их своевременного восстановления превращало цветущие края либо в пустыни, либо в ядовитые болота. Голод и эпидемии, вызванные и усиленные войнами, увеличивали размеры гекатомб. Угон в плен квалифицированной части населения, значительное сокращение общей его численности, а также поголовья скота крайне затрудняли восстановление разрушенного хозяйства.
Отмеченные выше природные и военно-политические факторы наложили немалый отпечаток на особенности эволюции общественных структур и производительных сил стран Востока. Возникшее в целях мобилизации подданных для коллективной эксплуатации могучей природы, а также для ожесточенной борьбы с внешними и внутренними врагами за право распоряжаться значительным прибавочным продуктом, государство в азиатских и североафриканских обществах сложилось, вероятно, раньше, чем возникли относительно развитые, в том числе рыночные, формы горизонтальной интеграции социума. Оно приобрело при всех немаловажных различиях, существовавших между странами и регионами Востока, основные черты того, что обычно называют восточным деспотизмом.
Общество подобного типа с преобладанием вертикальных (командных) импульсов и связей над обратными, а также горизонтальными связями, самодовлеющее, в известном смысле тотальное (т. е. без четкого разделения властей, скажем, на светскую и духовную) и дистрибутивное по своему характеру, было при всех его изъянах вовсе не ошибкой истории, а достаточно жизнеспособной системой, просуществовавшей не одно тысячелетие.
Поддержание и восстановление определенного уровня стабильности после необычайно жестких экологических и военно-политических шоков нередко достигалось ценой существенного ослабления горизонтальных связей, подавления индивида, консервации традиционных институтов, ограничивавших импульсы к развитию.
В результате завоеваний кочевники к началу (или в начале) второго тысячелетия установили, а потом неоднократно «возобновляли» свое господство во всех трех крупнейших субрегионах Востока, при этом они воспроизводили, где это им удавалось, периферийные, архаичные формы хозяйствования. Господство кочевников в странах Востока по своему характеру и последствиям, как правило, отличалось далеко не в лучшую сторону от более поздней европейской колонизации. Важной чертой восточных деспотий, сложившихся в результате завоеваний номадов или испытывавших воздействие (военное давление) кочевников извне, была тенденция к превалированию непроизводительных, в том числе разрушительных и паразитических, функций государства над созидательными.
Говоря о хищничестве и паразитизме восточных правителей, приведем следующие факты. Рента и налоговые изъятия, отчуждаемые у крестьян в юаньском, минском и цинском Китае, в делийском султанате, могольской Индии, сефевидском Иране, а также в ближневосточных государствах эпохи Средневековья и Нового времени, порой достигали 40–50 % собранного урожая (конечно, крестьяне, бывало, утаивали часть продукции, но и чиновники и откупщики нередко выколачивали больше, чем это было «положено»). По данным отечественных и зарубежных востоковедов, в XI–XIII вв. на Ближнем Востоке (Египет, Сирия) отчуждалось у крестьян-землевладельцев 25 %, у арендаторов – 62, у издольщиков – 75 и у батраков 82 % произведенного ими сельскохозяйственного продукта. На Ближнем Востоке в конце XVIII – начале XIX вв. феллахи, случалось, отдавали в виде налогов (и ренты) до 2/3 урожая; элита (0,1–0,3 % населения) в могольской Индии, Османской империи, сефевидском Иране присваивала 15–20 % национального продукта. В цинском Китае этот показатель в среднем был, возможно, вдвое меньше (8–10 %), однако и он превышал европейские «стандарты»: в ранней Римской империи и в Англии эпохи королевы Елизаветы I этот индикатор достигал 5–7 %.
Стремясь сохранить и увеличить свои богатства, восточные правители, во-первых, как правило, ограничивали развитие частной инициативы, справедливо усматривая в ней серьезную опасность своему существованию, угрозу стабильности; во-вторых, всемерно наращивали средства военно-политического и идеологического давления на своих подданных и ближайших соседей. В Китае в последней четверти XI в. военные расходы (по минимальным оценкам) могли составлять 3–6 % ВНП.
В аббасидском халифате во времена правления аль-Мансура, Харун ар-Рашида и аль-Мамуна (754–833) этот показатель, возможно, равнялся 6–7 % национального продукта стран Ближнего Востока. В государстве Салах-ад-Дина во времена третьего крестового похода (1189–1192) военные расходы достигали не менее 8–10 % национального продукта. Примерно в такую же величину можно оценить военные затраты Османской империи к концу правления турецкого султана Сулеймана I Кануни (1520–1566). В могольской Индии военные расходы возросли с 12–15 % ее национального продукта в 1595–1605 гг. до 18–23 % в 1680–1688 гг., при этом около четверти населения империи непосредственно обслуживало ее вооруженные силы.
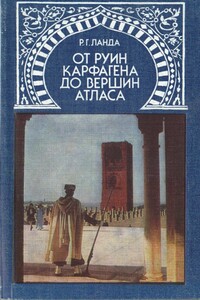
Автор книги, известный советский арабист, повествует о своих впечатлениях от посещения арабских стран Магриба — Алжира, Марокко и Туниса. Рассказы о различных сторонах сегодняшней жизни, быта и культуры народов этих стран сочетаются с экскурсами в их историю. Специальное внимание автор уделяет воздействию на страны Магриба общеарабской специфики, культурных традиций средиземноморского региона.

Эта книга — о путешествиях в Тунис, Ливию, Алжир и Объединенную Арабскую Республику. В ней рассказывается о больших городах и цветущих оазисах, экзотических базарах и гигантских новостройках. Читатель побывает в старинных мечетях Туниса и в горах Кабилии, у подножия египетских пирамид и на строительстве Асуанской плотины, окажется свидетелем встреч и бесед с общественными и государственными деятелями, мастерами культуры.
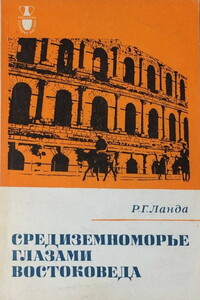
Очерки советского историка-арабиста написаны на основе впечатлений от поездки по Средиземному морю в октябре 1977 г., во время которой автор побывал в Стамбуле, на Кипре, Крите, Мальте, Сицилии и Корсике, а также в некоторых городах Италии и Греции. Главное внимание уделяется современному облику и повседневной жизни Стамбула, Кипра и Мальты, а также историческим, культурным и демографическим связям с Востоком островов Средиземноморья. В книге освещаются особенности контактов жителей южной Европы с Востоком, роль некоторых групп средиземноморских европейцев в арабских странах, обосновывается оценка Средиземноморья как древнего района сближения пародов Европы и Востока.
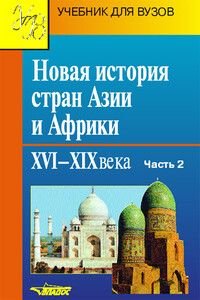
Авторы учебника в свете новейших достижений исторической науки рассматривают важнейшие события и проблемы истории стран Азии и Африки в Новое время, предлагают оригинальную хронологию Нового времени, анализируют основные тенденции общественного развития стран Азии и Африки в указанный период.Настоящий учебник издается в трех частях. Во второй части представлена история стран Индии, Афганистана, Средней Азии, Ирана, Кавказа, Османской империи, арабских стран XVI–XIX вв.
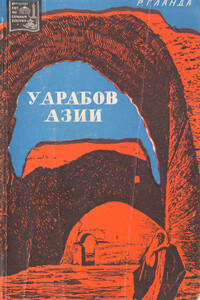
Путевые очерки «У арабов Азии» рассказывают об увлекательном путешествии в Сирию, Ливан и Ирак — страны древнейшей культуры и редких памятников минувших цивилизаций, разнообразных природных богатств и полулегендарного исторического прошлого. Вместе с тем это книга о сегодняшнем дне Арабского Востока, об особенностях жизни, проблемах и чаяниях современных арабов.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.
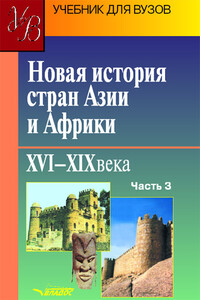
Авторы учебника в свете новейших достижений исторической науки рассматривают важнейшие события и проблемы истории стран Азии и Африки в Новое время, предлагают оригинальную хронологию Нового времени, анализируют основные тенденции общественного развития стран Азии и Африки в указанный период.Настоящий учебник издается в трех частях. В третьей части представлена история арабских стран Азии и Африки, а также история Африки.