Чаадаев - [47]
Непоследовательности, однако, тут не было. Для Печерина католичество стало новым духовным отечеством. «Что значит отечество, — писал Печерин перед своим отъездом из России, — в наш образованный век? Мы вырвались из цепей природы! Мы стоим выше ее! Физические путы нас более не связывают и не должны связывать. Глыбы земли — какое-то сочувствие крови и мяса — неужели это отечество? Нет! Мое отечество там, где живет моя мысль, моя вера!»
Для Чаадаева идеи неокатолицизма оказались в ту пору парадоксальным путем к осознанию своего места в русском обществе и к осознанию места России в мировой истории. Кто знает, появись «Философическое письмо» годом ранее, и имя Печерина, незаурядного ученого, даровитого поэта и блистательного лектора, может быть, обогатило бы дальнейшую историю русской общественной мысли? Кто знает, сколько имен для этой истории успело спасти выступление Чаадаева?
Но Печерину Чаадаев уже не помог, не успел помочь.
Прошло много лет. Герцен был уже в Англии и издавал свой знаменитый «Колокол», случайно он встретился с Печериным. В «Былом и думах» есть глава, посвященная этой встрече. Глава называется не «Владимир Сергеевич Печерин», она называется «Pater V. Petcherine» (отец В. Печерин, по-латыни).
Кто-то сообщает Герцену:
«— Вчера я видел Печерина.
Я вздрогнул при этом имени.
— Как, — спросил я, — того Печерина? Он здесь?»
...Его преподобие Печерин!.. «И этот грех лежит на Николае...»
И вот — встреча. Встретились два русских человека на чужбине, два политических эмигранта. И два пути.
«...Вышел небольшого роста, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:
— Вы желали видеть Печерина?
...Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло и... умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи и в его движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.
Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова12, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях — мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел...»
Печерин попросил Герцена прислать ему некоторые его статьи. Потом Печерин и Герцен обменялись несколькими письмами. Они так и не поняли друг друга. Печерин, по всей видимости, прочитал герценовские «Русский народ и социализм» и знаменитое «О развитии революционных идей в России». Он писал в этой связи Герцену: «У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что „фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может только быть видоизменение николаевского самовластия“. Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, т. е. что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?»
В своей книге «О развитии революционных идей в России» Герцен, между прочим, писал: «Фаланстер — не что иное, как русская община и рабочая казарма, военное поселение на гражданский лад, полк фабричных, Замечено, что у оппозиции, которая открыто борется с правительством, всегда есть что-то от его характера, но в обратном смысле. И я уверен, что существует известное основание у страха, который начинает испытывать русское правительство перед коммунизмом: коммунизм — это русское самодержавие наоборот».
«Говоря так, — читаем мы в комментариях к последнему изданию сочинений Герцена, — Герцен имеет в виду тенденции регламентирования и уравнительности, присущие утопическим представлениям о коммунизме».
Вспомним в этой же связи и уничтожающую критику уравнительных идей вульгарного коммунизма в трудах К. Маркса.
Печерин просто смешал воедино представление о коммунизме как действительном движении истории с утопическими теориями коммунистического общества, придав критике Герценом исторической ограниченности некоторых коммунистических утопий того времени смысл утверждения этой ограниченности в качестве исторически неизбежного будущего всего человечества.
Герцен отвечал Печерину, говоря, что «тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери, — замечал Герцен, — беспокоятся перед землетрясением».
Но «землетрясений» Печерин уже боялся теперь больше всего.
«Что будет с нами, — отвечал он, в свою очередь, Герцену, — когда ваше образование... одержит победу? Для вас наука — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, и наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме него... Если эта наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели по крайней мере возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: „Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем! Вот, что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?“

Вместе с навсегда запечатлевающейся в душе онегинской строфой приходит к нам «меланхолический Якушкин», и «цареубийственный кинжал» романтически неожиданно блестит в его руке. Учебник охлаждает взволнованное воображение. Оказывается, этот представитель декабризма не отличался политической лихостью. Автор этой книги считает, что несоответствие заключено тут не в герое, а в нашем представлении о том, каким ему надлежало быть. Как образовалось такое несоответствие? Какие общественные процессы выразились в игре мнений о Якушкине? Ответом на эти вопросы писатель озабочен не менее, нежели судьбой и внутренним миром героя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
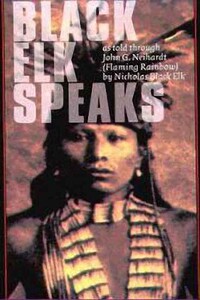
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
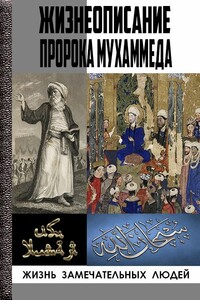
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.
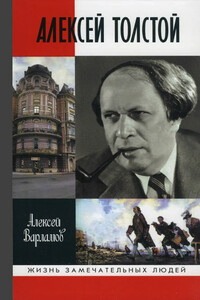
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.