Цензоры за работой. Как государство формирует литературу - [13]
Несмотря на эти разногласия, цензура, в ее повседневном варианте, скорее сближала авторов и цензоров, чем разделяла их. Их взаимоотношения обычно превращались в ту или иную форму сотрудничества, а не безжалостное подавление. Насколько можно подсчитать, процент отказов был довольно низок, около 10%[87]. Но, разумеется, рукописи, которые действительно бросали вызов ценностям церкви и государства, не попадали к цензорам в Управление книготорговли. Они отправлялись на печатные станки, находившиеся за границами Франции, где протянулась благодатным полумесяцем вереница издательских домов от Амстердама вниз к Брюсселю и Льежу, через Рейнскую область в Швейцарию и, наконец, в папские владения в Авиньоне. Эта однозначно запретная литература вместе с большим количеством незаконно изданных книг доставляла немалую прибыль зарубежным издателям, отправлявшим все это во Францию через обширную сеть подпольных распространителей и контрабандистов[88]. Ущерб, наносимый французской экономике, был настолько велик, что директора книжной торговли, особенно Мальзерб и его преемник Антуан де Сартин, делали все возможное, чтобы расширить пределы разрешенного во Франции, увеличивая число молчаливых дозволений, простых дозволений, допущений и с помощью других методов, ради поддержки местного производства. Экономика в вопросах цензуры значила не меньше, чем политика или религия[89].
Однако администраторы не располагали полной свободой действий, так как в Париже они не могли принять ни одного важного решения, не думая о реакции Версаля. Как только всплывал чувствительный вопрос, Мальзерб в обход своих цензоров обращался прямо к ключевым фигурам в министерствах и при дворе. Можно ли напечатать трактат о военных укреплениях? Пусть решит военный министр. Исследование зарубежной торговли? Его отправляли генеральному контролеру финансов. История Ирландии с особым упором на войну и дипломатию? Министр иностранных дел должен был заверить рукопись перед отправкой цензору. Книга о необходимости построить в Париже новый госпиталь? Цензор дал ей предварительное одобрение, но окончательное решение ее судьбы было в руках министра, возглавлявшего парижский департамент[90]. Посвящения тоже были деликатным делом, ведь публичная фигура, принимая посвященное произведение, косвенно выражала поддержку автору и оказывалась с ним связана. Писатели постоянно осаждали знатных вельмож, надеясь, что посвящение приведет к протекции. Обычно они не могли пробиться дальше прихожей или секретаря сановника, но периодически пытались срезать угол, опубликовав посвящение без разрешения и отправив своему потенциальному покровителю специально переплетенную копию. Мальзерб должен был пресекать подобного рода проступки. Он не позволял печатать посвящение, если автор не мог предоставить письма, подтверждавшего, что оно было принято, и всегда требовал от цензора проверить текст самого посвящения[91].
В этот момент разговора о цензорах мы, по-видимому, ударяемся в крайность. Цензоры давали положительные отзывы на книги. Они обращали внимание скорее на эстетическую и содержательную ценность текста, чем на угрозу для церкви, государства и морали. Они часто сочувствовали авторам, встречались с ними и даже вносили свой вклад в их работу. Вместо того чтобы накладывать на литературу ограничения, они помогали ей существовать. Так неужели цензоры вообще не занимались идеологической полицейской работой, которая обычно ассоциируется с их профессией?
Трудные случаи
Можно выдвигать на передний план положительные стороны цензуры, отбирая из примеров те, что показывают ее в выгодном свете. Описывая выше занятия цензоров, я старался быть, насколько это возможно, непредвзятым. Но, сосредотачиваясь на их обычной повседневной работе, я не уделил внимания ярким событиям, которые привлекают большинство историков, и не рассматривал случаи, когда цензоры занимались непосредственно идеологическими вопросами. Середина XVIII века была временем великого брожения. Время, на протяжении которого Мальзерб занимал пост директора книжной торговли, почти совпадает с периодом, когда были изданы самые значительные произведения эпохи Просвещения: от «Энциклопедии» (ее проект впервые был издан в 1750 году, а последние десять томов вышли вместе в 1765‐м) до «Эмиля» и «Рассуждения о науках и искусствах» Руссо (обе работы опубликованы в 1762‐м). Мальзерб был другом просветителей, и его действия на посту директора многие считают поворотной точкой в истории Просвещения и свободы слова в целом. Как это сказывалось на повседневной работе цензоров, служивших под его началом?
Внимательное изучение всех отчетов, писем и докладов цензоров с 1750 по 1763 год показывает отсутствие особого интереса к работам просветителей. Философия вообще не вызывала беспокойства. В отзыве на книгу, одобряющую метафизику Лейбница, цензор пренебрежительно отзывается о важности таких вопросов:
Многие философы среди нас могут не соглашаться с истинностью этих принципов и утверждать, что выводы, к которым они приводят, могут оказать опасное влияние на религию. Но это просто споры о философии, и я не думаю, что есть какая-то существенная причина, по которой нужно запрещать выход труда, вызывающего такие споры

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Поэзия и полиция» сочетает в себе приемы детективного расследования, исторического изыскания и теоретической рефлексии. Ее сюжет связан с вторичным распутыванием обстоятельств одного дела, однажды уже раскрытого парижской полицией. Речь идет о распространении весной 1749 года крамольных стихов, направленных против королевского двора и лично Людовика XV. Пытаясь выйти на автора, полиция отправила в Бастилию четырнадцать представителей образованного сословия – студентов, молодых священников и адвокатов.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
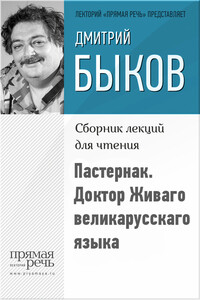
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
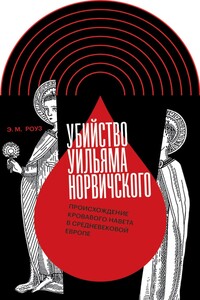
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.