Цензоры за работой. Как государство формирует литературу - [11]
Большинство цензоров, похоже, подходили к своей задаче серьезно и работали с усердием. Изучая трактат о торговле и курсе валют, один из них исправил орфографические ошибки и переделал большую часть расчетов[62]. Другие делали списки фактических ошибок, подправляли грамматику, отмечали стилистические неточности и особенно старались отмечать фразы, которые могли быть сочтены оскорбительными. Цензоры часто возражали против резкого тона, защищая идеалы умеренности и благопристойности (bienséances)[63]. В таких случаях они вписывали возможные варианты улучшения текста. Один цензор даже потребовал заново переписать рукопись, оставив между строками больше пространства для исправлений[64]. Столь внимательная цензура напоминает о старательности, с которой рецензенты сейчас подходят к оценке книг для издательств.
Рис. 4. Страница из ведомости суждений, feuille des jugements, показывающая число цензурных писем, billets de censure, с суждениями, jugements, названия книг, имена цензоров и решения, касающиеся типа разрешения (привилегия, permission tacite или permission simple), и срок его действия
Поскольку такой процесс требовал много усердия, заботы и ответственности, он связывал писателя и цензора крепкими узами, иногда доходившими почти до соавторства. Цензора назначал главный директор книжной торговли, который часто консультировался с авторами и удовлетворял просьбы, которые ему присылали. Мальзерб знал всех известных писателей своего времени и иногда помогал их рукописям обойти опасности и препоны на пути к получению привилегии или молчаливого согласия. Самые знаменитые авторы встречали особое обращение, ведь почтительность к ним и использование собственного влияния были обычным делом среди людей света. Вольтер всегда добивался покровительства не только от Мальзерба, но от министров, генерал-лейтенанта полиции, влиятельных вельмож и любого, кто мог дать ход его произведениям – разумеется, легальным. Свои нелегальные труды он публиковал подпольно и под вымышленными именами или, еще лучше, под именами своих врагов[65]. В ходе сложных взаимоотношений с Руссо Мальзерб практически сам руководил публикацией его основных трудов, особенно «Новой Элоизы» и «Эмиля». Менее известным, но тоже обладавшим хорошими связями писателям иногда удавалось получить одобрение для своего произведения у человека, который вообще не был цензором, потому что Мальзерб мог послать необычный billet de censure в особом случае. Когда влиятельный адвокат по имени Обер попросил поспособствовать выходу его юридического трактата, Мальзерб послал billet de censure самому Оберу и попросил его вписать имя цензора[66]. Такого рода манипуляции нередко приводили к тому, что друг друга цензурировали друзья и коллеги. Фонтенель одобрил «Различные сочинения», Oeuvres diverses, Монкрифа, своего товарища-цензора и собрата по Французской академии[67]. Другой цензор, Секус, просматривал юридическую антологию, составителем которой был и вовсе он сам[68]. Иногда никому не известные писатели получали особое покровительство, очевидно потому, что Мальзербу показались убедительными их просьбы. Священник, написавший «Общий план общественного учреждения для юношества на попечении бургундского парламента», Plan général d’institution publique pour la jeunesse du ressort du parlement de Bourgogne, попросил выбрать для рассмотрения работы своего друга цензора Мишоля. Он подчеркнул, что не стоит опасаться фаворитизма, ведь Мишоль – «человек честный, искренний и в достаточной мере радеющий о славе литературы, чтобы закрыть глаза на то, что работа недостойна публикации. Я полностью доверяю его суждениям и внесу все исправления, которые он предложит, с уважением и послушанием, которых он заслуживает». Мальзерб согласился[69].
В принципе, авторы не должны были знать имена своих цензоров и, как правило, не знали их. Последние иногда настаивали на анонимности как условии работы. У Монкрифа было столько связей среди культурной элиты и сливок общества, что он не смог бы нормально работать, если бы его имя стало известно авторам доверенных ему рукописей[70]. И все же случались утечки, к ужасу цензоров, в том числе Монкрифа[71]. Узнав, что один из его отрицательных отзывов может быть показан автору, особенно трепетный цензор попросил вырезать свою подпись с нижнего края страницы[72]. Даже положительная оценка могла вызвать проблемы, ведь, когда имя цензора появлялось вместе с апробацией и привилегией в тексте книги, он казался единомышленником автора и мог навлечь на себя гнев его врагов. Литературный цензор умолял Мальзерба дать лишь молчаливое дозволение,

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Поэзия и полиция» сочетает в себе приемы детективного расследования, исторического изыскания и теоретической рефлексии. Ее сюжет связан с вторичным распутыванием обстоятельств одного дела, однажды уже раскрытого парижской полицией. Речь идет о распространении весной 1749 года крамольных стихов, направленных против королевского двора и лично Людовика XV. Пытаясь выйти на автора, полиция отправила в Бастилию четырнадцать представителей образованного сословия – студентов, молодых священников и адвокатов.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
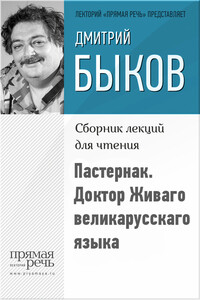
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
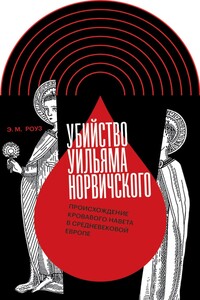
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.