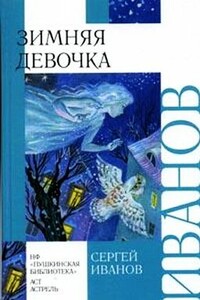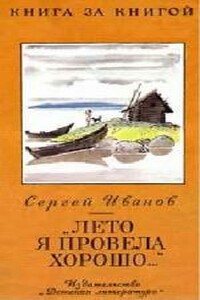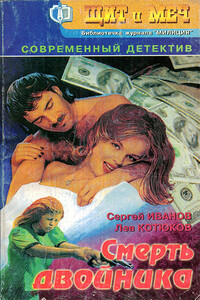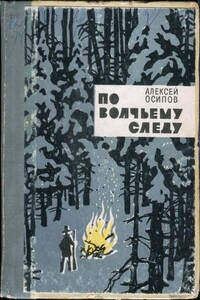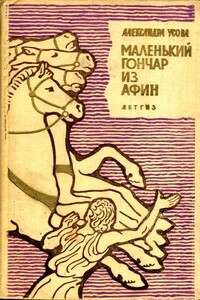И тогда Надя сама сказала:
— Из-за тебя. Ну в общем, чтоб ты это узнала.
— Подумать только, какие жертвоприношения!
Надя кивнула, но как-то не очень уверенно.
«Я знаю, ты его жалеешь, — хотела сказать Лида, — а я его совсем не жалею! Потому что это всё не по-настоящему. Всё это по-детски. Так дети делают: вот я вам заболею назло. А вы меня за это жалейте, противные папка с мамкой! А у меня нету сил на такую ерунду. Меня бы саму кто пожалел».
Надя ничего не ответила. Да ведь и Лида ей ничего не сказала.
Так они и шли. Но всю дорогу до метро не промолчишь. Как-никак больше десяти минут ходу.
Господи! Да зачем этот Севка им сдался? Совершенно не нужен! Только дружбу портит. Лида, конечно, тоже виновата. Но теперь-то она понимает, что для неё Севка значит, а что Надя… Вот как она говорила. И сказать по правде, получалось у Лиды довольно неловко, нескладно. Она почувствовала это, даже ещё не закончив свой жалобный монолог.
Надя кивнула, вроде бы согласилась. А говорить стала совсем другое:
— Я же его давно знаю: брат, да ещё ровесник… — Надя запнулась. — Он, Лид, он не предатель… Я поняла: ты думаешь, раз он так поступил, значит, всё. Это, Лид, неправильно. Он просто… ну, как говорится, легкомысленный. А вот взять и заболеть… Или на эти двойки решиться… Не каждый мальчишка может! Согласна? Нет, Лид, он не плохой…
И дальше, дальше — какие-то случаи из детства. Она будто бы уговаривала Лиду.
Уговаривала на что? Что сделать-то нужно? Хорошо, что навстречу им уже махало дверями метро.
— Я тебе позвоню, Надя, — вот единственно, что смогла она обещать.
* * *
В метро, по дороге к батяньке, её начали обступать довольно-таки странные мысли… Метро, надо сказать, было одной из тех вещей, которые её любили. И она любила метро.
Батянька смеётся: «Образцовая москвичка!» — «Почему образцовая, батянь?» — «Ну, москвич без метро, что туляк без самовара!» Сам он, однако, Лида заметила, старался ездить по земле — на трамвае, на троллейбусе. А ещё лучше пешком!
Но это всё так, лирическое отступление. Это всё к тому, что метро, любя Лиду, дало ей уютное место в уголке: народу много, а ты всё равно словно одна — можешь думать о чём хочешь… И тут обступили её те самые странные мысли.
Она думала о Севе…
Да, это верно: не каждый решится заболеть и нахватать двоек. Ну, а что дальше? Не было у неё в душе такого уж рвения скорее лететь на выручку его ангинному страданию.
Надя говорит, он, мол, и милый, и всякий, и очень неплохой, и не предатель… Зачем это Наде всё нужно? За кого она переживает? За Севку? За меня?… И сама удивилась этой странной мысли: а чего за меня-то?
Вдруг она подумала о матери. О своей маме и о Севке. Они объединились в её мыслях. И Надя словно бы подталкивала её к чему-то… Что же я должна сделать? Ведь я кругом права!
Она кусала губу… Несмотря на её старания, постепенно всё сплеталось в один перепутанный узел: батянька, мама, Надя, Севка. Она почувствовала, что если ещё немножко будет думать об этом, то буквально распаяется, как тот батянькин самовар… Но и не думать она не могла!
И тут какой-то добрый дух надоумил её читать про себя «Как ныне сбирается вещий Олег». И когда она дошла до того места, где князь Игорь и Ольга на холме сидят, из темноты вымелькнула батянькина станция. А значит, думать стало некогда, началась обычная неопасная метровская спешка и толкучка.
* * *
Человек прожил с небольшим двенадцать лет. В переводе на дни (365 умножить на 12) получится, примерно, 4300, 4400… Но эти дни совсем неодинаковы. Бывают совершенно пустые: прогрохотал — и нету, и вообще неясно, зачем он только был в твоей жизни. А бывают, как сегодня: одно пройдёт, сразу же второе, за ним третье, четвёртое. И всё непростые дела. Каждый раз приходится душу тратить до последнего клочочка!
Батянька встретил её какой-то весь вздёрнутый. У Троекурова Кирилла Петровича, когда он волновался, была песня: «Гром победы раздавайся», а у батяньки: «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“, пощады никто-о трам-парам-рам!»
Из палаты они пошли не к холлу, как обычно, а в другую сторону. Коридор темнел и был пустынен. Вдруг батянька открыл какую-то дверь. Лида ничего не успела сообразить… Сказал шёпотом:
— Это, Лид, операционная… — Шёпот дрожащий.
— А мы зачем?
— Вот, посмотри…
— Да ну, идём отсюда!
— Здесь никого нет, поговорим…
Они сели (как спрятались) в углу за большим таким вроде бы шкафом — железным, с окошками, в которых виднелись стрелки приборов. Сели на белые вертлявые табуретки. Батянька взял Лиду за плечи и повернул к себе — так, что её коленки упирались в его. И глаза их оказались как бы связанными. И он не отпускал руки с её плеч.
— Я, Лид, кое-что знаю, а кое о чём догадываюсь. Сейчас скажу тебе одну вещь. Но этим можно пользоваться только в мирных целях! Скажу это потому, что я, Лида, тебе доверяю.
Она не могла сейчас ни кивнуть, ни слова произнести. И только смотрела в родные батянькины глаза, такие же коричневые, как и её собственные.
— Я тебе хочу сказать про маму. Ты думаешь, что она и такая и сякая… Даже, Лид, если ты правильно это думаешь, хотя я совсем не уверен… всё равно, Лид, она наша. И никто её, кроме нас с тобой, не починит… И не полюбит.