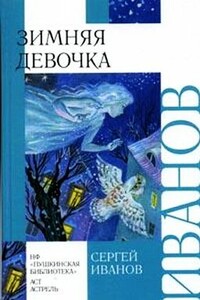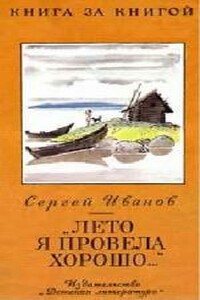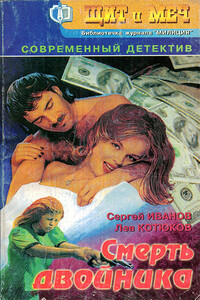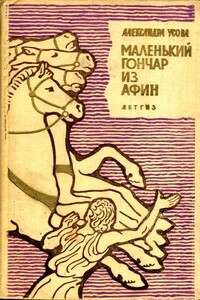Старушка, однако, не вошла в дверь. Сказала, заметно дыша:
— Погоди. Спасибо…
Хотела отдохнуть после шести ступенек, на которые взобралась.
Лида удивлённо, внимательно смотрела на неё. Наконец отпустила захватанную ручку, дверь пролетела тяжёлым крылом и хлопнула. А я тоже когда-то буду такая, подумала Лида и ничего не почувствовала, не могла поверить. Старушка белоснежным комком платка промокнула пот, улыбнулась Лиде:
— Ну пойдём теперь, пора.
И сама открыла дверь. Лида, не дотрагиваясь, прошмыгнула вслед за нею.
* * *
Она шла, чувствуя на плечах невесомую тяжесть халата, слыша, как шуршит полиэтиленовый пакет с яблоками, а в нос пробирается настойчивый запах больницы. Про него не придумаешь определений, как и про запах антоновских яблок или про запах гвоздик. Он особый. Можно лишь сказать, что от него сердцу становится тоскливо и тревожно.
Коридор был широкий, с белым пластиковым, по-больничному чистым полом. По такому коридору невольно хотелось идти быстро, разгоняться. Двери палат все были раскрыты. Стоило большого труда не заглядывать в них любопытными глазами.
Она шла, невольно чувствуя гордость от того, что делает взрослое дело. А когда наконец решила проверить, не проскочила ли нужную дверь, и повернула голову, сразу увидела отца. Он брился, сидя на кровати. Из коротковатых линялых штанов вылезали голые ноги.
Вдруг Лида до грусти ясно поняла, что именно так она и трещит, отцовская бритва. Вечер, уже почти засыпаешь, а из ванны: ж-ж-ж-ж… Батянька бреется — утром-то времени нет. Тут же она поняла, как давно не слышала этот звук в их неприбранной, разом опустелой квартире. И неясная тревога от больничного запаха стала теперь понятной: не зря, нет, не зря сердце сжималось!
Лида на мгновение замерла в дверях. Уже собиралась было позвать: «Батянь!» Но тут же спохватилась: неловко перед чужими. Что это за «батянь»! Пока она раздумывала, как окликнуть его и надо ли вообще окликать или лучше пройти в палату, да и всё, а бритва продолжала жужжать, заговорил вдруг человек, лежащий к Лиде спиной. Он крутил настройку маленького приёмника:
— Сидим в Москве, в каменном доме, с закрытыми окнами — слушаем Америку!.. Нет, радио всё-таки великое изобретение.
Он так и произнёс: «изобретение». Лида невольно улыбнулась и этому его ударению, и этому удивлению. Надо же, есть ещё такие люди — на радио удивляются…
Но батянька и старик, который лежал лицом к Лиде, но не видел её, потому что читал толстую книгу в газетной обложке, продолжали заниматься своим делом будто это были не слова, сказанные человеком, а муха, пролетевшая из угла в угол.
— Радио, телевизор, Марс, Венера… — говорил человек с приёмником, словно бы его внимательнейшим образом слушали. — А простой рак лечить не умеют… Сволочи!
И неожиданно засмеялся. Лида вздрогнула.
— Слушай, Снегирёв!.. — Батянька сердито выключил бритву.
Тут он увидел Лиду. По лицу его пробежало как бы несколько волн. Во-первых, ему хотелось вклеить этому Снегирёву. Но было неудобно перед Лидой. Во-вторых, он радовался, что увидел её. И одновременно будто старался рассмотреть кого-то, кто стоял за Лидиной спиной. Она даже чуть не оглянулась. Он же маму, маму высматривает!
Сразу собралась с силами, намеренно детскими шагами вошла в палату, громко и робко поздоровалась, что называется, «со всеми». И как ни в чём не бывало понесла:
— От мамы тебе огромный привет. У нее гриппозное состояние… сказала, что боится к тебе идти.
— Вот оно что, — батянька помотал головой. — Жалко!
Ему действительно было жалко, что мама не пришла. В то же время он всё отлично понимал… по глазам же видно! Понимал, что с мамой чего-то не того и что Лида специально «играет в ребёнка».
Они пошли обратно по широкому коридору, мимо тех же раскрытых дверей. Однако теперь Лида этого не замечала. А только чувствовала батянькину руку, которой он обнял её за плечи. И ей бы радоваться. Она не могла. Ждала, когда он про маму спросит. Ей хотелось идти как можно дольше и ни о чём не говорить. Но ведь так не бывает!
За поворотом начинался просторный, чуть низковатый холл с пятью или шестью большими цветами — вьюнами и пальмами, стоящими в кадках и ящиках с землёй. Всё это вместе называлось торжественным именем — зимний сад.
Именно здесь больные играли по целым дням в домино. Однако в часы посещений зимний сад опять становился зимним садом, то есть местом встреч и тихих разговоров.
Они уселись на полумягкий казённый диванчик у окна, уставленного горшками со всяческой цветочной порослью. Видать, люди, которые занимались здешними цветами, не относились к разряду оригиналов. Цветы были самые обычные — столетник, герани, разросшийся, своевременно не обрезанный лимон. Отец и дочь Филипповы одновременно вспомнили «цветы», стоящие на полочке у них в большой комнате. То были бородатые, молчаливые кактусы — вечно пыльные, окружённые ломкими занозистыми иголками.
«Человеческие цветы насколько красивее, — сердито подумала Лида. — И полезнее, между прочим!»
Она глянула на отца: пожалуйста, спрашивай, не буду я её защищать!.. Но что же всё-таки ему ответить?
— Значит, приболела мама? — спросил он очень-очень спокойно. (Лида кивнула.) А ты, значит, делегация родных и знакомых?