«Были очи острее точимой косы…» - [2]
Впрямую стоит вопрос о смысле. Как нам сегодня — через десять лет после кончины Надежды Яковлевны, через двадцатилетие после написания второй книги и более чем через четверть века после рождения первой — оценить дело ее жизни? Ответы на этот вопрос тяготеют к крайностям. Мне еще придется говорить об обидах, вызванных ее книгами, о тяжбах, которые ведутся из-за оценки конкретных лиц и событий. Значительно более странно, чем самую яростную обиду, встречать взгляд сверху вниз. Тут мне придется возражать людям, которых я искренно уважаю, но нельзя же так: Анатолий Найман скажет, Наталья Горбаневская в рецензии разовьет тему — и черта всем тоном подведена, вопрос исчерпан, отныне остается принять к сведению эту эпиграмму в прозе. И прежде всего для меня непонятно обвинение в том, что Надежда Яковлевна под конец жизни самоутверждалась, брала поздний реванш и тому подобное — не только за счет Ахматовой, но и за счет своего мужа. Будто бы отношение к обоим великим современникам пришло к симметрии, подлежит описанию в одних и тех же «терминах». Начать с того, что симметрии здесь не найдешь: скорее уж Ахматова была отчасти принесена в жертву единственности Осипа Эмильевича, что было бы непохвально со стороны беспристрастного летописца, но более нежели понятно со стороны «нищенки-подруги». Однако ни в книгах, настойчиво подчеркивающих по всякому поводу и даже без повода культурное, умственное и нравственное превосходство Мандельштама над взятой им в свою жизнь девочкой из богемного киевского «табунка», ни в тех разговорах, которым я был свидетелем и участником, я не находил и не нахожу никаких грехов перед памятью мужа: не только предполагаемого смыслом слов Н. Горбаневской его принижения ради своей вящей славы, но и другой, более невинной слабости, часто встречающейся у самых верных вдов, детей и друзей прославленных покойников, — навязчивой тепловатой фамильярности, убивающей чувство дистанции. Когда она говорила «Оська», это звучало не фамильярно, а скорее ритуально. В ней чувствовался спасительный страх перед тем, чтобы выграться в его роль, заговорить его голосом. Как-то я попросил ее прочитать что-нибудь из Мандельштама, причем имел неразумие объяснить, что надеюсь расслышать сквозь ее чтение его интонации. Она вроде бы согласилась, напряглась, открыла рот, но сейчас же закрыла и нахмурилась, повторила все эти действия еще два или три раза, хмурясь все больше, а под конец сказала: «Не могу. Оська говорит: цыц!» Существо дела, то есть отказ от самоидентификации, от того, чтобы из лучших побуждений перепутать себя с ним, здесь важнее, чем несколько стилизованная интонация испуганной жениной покорности… Перед другими — иной разговор; но я решительно не вижу, в чем бы это она была небезупречна перед его, как прежде сказали бы, тенью.
И одно дело — спорить с Надеждой Яковлевной, совсем другое — разделываться с ней небрежным пожатием плеч. Сказанное не означает, что мне симпатична идея приписывать ей, человеку донельзя страстному и пристрастному, некую непогрешимость мнений и суждений. Боже избави! Есть не одна, а минимум две веские причины воздержаться от того, чтобы делать из нее икону. Во-первых, нехорошо погрешать против истины; во-вторых, если мы любим человека и чтим ею память, мы должны пуще всего бояться возбудить против него иконоборческие аффекты соотечественников и современников. Дела не сведешь к вульгарной зависти — просто по законам естества эмоциональный нажим провоцирует ответную реакцию. С этой точки зрения меня многое смущает в послесловии Николая Панченко к книге «Воспоминания». Ему я готов низко поклониться за то, как он написал о похоронах Надежды Яковлевны, это дорогого стоит, ничего не скажешь. Но мне непонятны, например, его претензии к Михаилу Поливанову — не возражения, а именно укоризны. Я не вижу, почему признание великой заслуги Надежды Мандельштам, сохранившей, по выражению Н. Панченко, «наши мозги от помешательств века», логически или хотя бы морально дезавуирует поливановскую констатацию: «но друзья ей очень многое прощали»? Нам есть что прощать не только тем, кто меньше нас, но и тем, кто заведомо больше и кому мы по гроб жизни обязаны. Что до величия, оно определяет, по самому смыслу слова, масштаб, а не совершенство. И ведь тут есть еще один нюанс. Вся интонация Панченко принуждает читателя под страхом морального остракизма принять не одну, а две различные презумпции: добро бы еще всегдашней правоты Надежды Яковлевны — но ведь наряду с этим безусловной, безнадежной и возмутительной неправоты всех несогласных. Последним отказано в возможности иметь не только свою частную правду, пусть низшего ранга, но хотя бы не совсем постыдные мотивы для заблуждения: например, искреннюю привязанность к памяти некоторых современников. С этим согласиться куда труднее, чем с самой высокой оценкой жизненного дела покойной в целом. Именно в целом, а не в деталях. Детали могут требовать существенной корректировки, и это отнюдь не противоречит величию целого.
Вообще говоря, человек несравнимо более правомочен выносить приговор своему времени со всеми его «измами», тенденциями, умонастроениями, со всеми его наиболее общими чертами, нежели другому человеку. Собственно, этому учит христианство, которое Надежда Яковлевна исповедовала. Но наряду с духовным и моральным аспектами здесь есть и чисто познавательный аспект. Еще Аристотель говорил, что настоящий предмет точного знания — это общее. Описать с безупречной верностью некоторую моральную ситуацию, некоторую духовную ловушку, некоторую психологическую атмосферу вообще — трудно, но вполне мыслимо. Пусть, однако, два человека попробуют с полной добросовестностью воссоздать сценку, разыгравшуюся между ними сутки тому назад, — и мы получим рассказ о двух разных сценках.
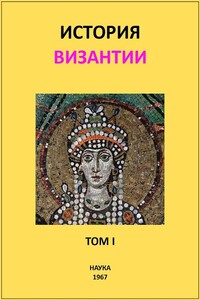
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
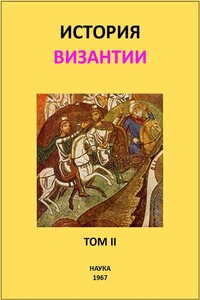
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.