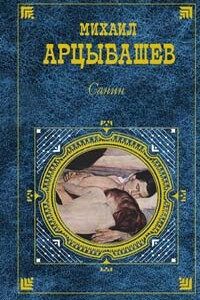Бунт - [5]
И Саша против воли танцевала и кричала, и ругалась и смеялась.
— Ску-учно,— сказала она старенькому чиновнику, присосавшемуся к ней.
— Ну, и дура!— с равнодушной злостью сказал чиновник и неудержимо сладострастным шепотком прибавил:— пойдем что ли!
Тогда Саша стала жадно пить горькое пиво, проливая его на пол, на себя, на смятую кровать. Она пила захлебываясь, а когда напилась, ею овладело тупое, больное, равнодушное веселье. Опять она пела, ругалась, танцевала и забыла, наконец, свое чувство и Любку, так что, когда в коридоре началась страшная суматоха, и кто-то пронзительным и тонким голосом, с каким-то недоумением закричал: — «Любка удавилась!»— то Саша не могла даже сразу сообразить, какая такая Любка могла удавиться и зачем?
Но когда тапер сразу оборвал музыку, и нестройно протяжно прогудела педаль, Саша вдруг вспомнила и свой разговор с Любкой, и все, громко ахнула и побежала по коридору.
Там уже была полиция, городовые и дворники, запорошенные снегом, кинувшимся в глаза Саше, стучавшие тяжелыми валенками и нанесшие странного в узком душном коридоре, бодрящего, холодного чистого воздуха. На полу был натоптан и быстро темнел и таял мягкий свежий, только что выпавший снег. И Саше показалось, будто вся улица вошла в коридор, со всеми своими закутанными мокрыми людьми, суетой, шумом, холодом и грязью. Дворники и городовые равнодушно делали какое-то свое дело, непонятное Саше, точно работали спокойную и полезную работу, и только толстый усатый околоточный, в толстой серой, с торчащими блестящими пуговицами, шинели, в которую злобно впивались черные ремни шашки, ожесточенно и громко кричал и ругался.
Слышно было, как «экономка» слезливым и хриплым басом повторяла:
— Разве ж я тому причиной?.. Какая моя вина?..
Лицо у нее было желтое и совсем перекошенное от недоумелой злости и страха.
Саша ткнулась в отворенную дверь Любкиной комнаты, и хотя ее сейчас же с грубым и скверным словом равнодушно вытолкнул городовой, она все-таки успела увидать ноги Любки, торчавшие из-под скомканной и почему-то мокрой простыни. Ноги были босые, потому что Любка так и не оделась после приема гостя; они неподвижно торчали носками врозь, и странно и жалко было видеть эти бело-розовые, прекрасные, с тонкими, нужными и сильными пальцами, ноги неподвижными и ненужными, брошенными на затоптанный, точно заплеванный, пол.
Саша вылетела обратно в коридор, больно проехалась плечом о стену и пошла прочь, машинально потирая рукою ушибленное место.
И в эту минуту ей стало противно, обидно, страшно и жалко себя, и захотелось уйти куда-нибудь, перестать быть собою, такою, как есть.
В необычное время потушили огни, гости разошлись и все сразу стало пусто и тихо-тихо. Дом как будто притаился в зловещем молчании. Девушки боялись идти спать и толпились в кухне, одни одетые, другие растрепанные, измятые; лица у них у всех были одинаково искривлены в тревожные, слезливые, точно чего-то ожидающая гримасы. Дверь в комнату Любки заперли, и возле нее расположился, почему-то в шубе и шапке, дюжий спокойный дворник. Дверь эта была такая же, как и все в доме, невысокая, белая, но именно тем, что произошло за нею, она как будто отделилась от всех дверей и даже от всего мира и стала какой-то особенной, таинственно страшной. Девицы то и дело бегали взглянуть на нее и сейчас же со всех ног бежали обратно.
Одна девушка, больше других дружившая с Любкой, сидела в кухне у стола и плакала, и от жалости, и оттого, что на нее смотрят со страхом и любопытством.
Было страшно и непонятно, точно перед всеми встало что-то неразрешимо ужасное и печальное.
Пришла экономка, сердитая и желтая, как лимон. Она с размаху села за стол и стала дрожащими руками наливать и пить, как всегда, приготовленное для нее пиво. Губы у нее тоже дрожали, а глаза злобно косились на девушек. Она помолчала, наслаждаясь тем, что всё притихли, глядя на нее испуганными и покорными глазами, а потом проговорила сквозь зубы:
— Тоже… как же… ха!.. Подумаешь!
И в этих словах было столько бесконечного удивленного презрения, что даже привыкшим к самой грубой и злой ругани девушкам стало не по себе, неловко и грустно. И потому особенно стыдно и обидно, что каждая из них, ничтожная и загаженная, в самой глубине души, непонятно для самой себя, как-то гордилась поступком Любки.
И все стали потихоньку и не глядя друг на друга расходиться.
— Сашенька, — шепотом позвала Сашу одна из девиц, Полька Кучерявая.
— Чего?
— Сашенька, душенька… боюсь я одна… возьми к себе… будем вместе спать…
Она заглядывала Саше в лицо боязливыми, умоляющими глазами и собиралась заплакать.
— И то, пойдем… Все не так…
Когда они уже лежали рядом на постели, им было неловко и странно, потому что они давно привыкли лежать только с мужчинами. Обе стыдились своего тела и молча старались не дотрагиваться друг до друга.
Было темно и жутко. Саше, которая лежала с краю, все казалось, будто что-то черное и холодное с неодолимой силой ползет по полу, медленно, медленно. В ушах у нее звенело мелодично и жалобно, а ей казалось, что где-то там, далеко в темном, как могила, пустом, холодном зале падают куда-то и звенят хрустальные и тоскливые капли рояля. Там сидит мертвая и неподвижная, холодная, синяя и страшная Любка, сидит за роялем и слезы капают на рояль, и мертвые глаза ничего не видят перед собой, но Сашу видят оттуда, страшно видят, тянутся к ней. А по полу что-то медленно-медленно подползает.
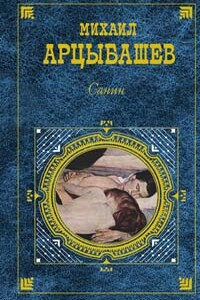
Михаил Арцыбашев (1878–1927) — один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание. Роман «Санин» — главная книга писателя — долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», — писал Л. Н. Толстой.Помимо романа «Санин», в книгу вошли повести и рассказы: «Роман маленькой женщины», «Кровавое пятно», «Старая история» и другие.

Психологическая проза скандально известного русского писателя Михаила Арцыбашева, эмигрировавшего после 1917 года.
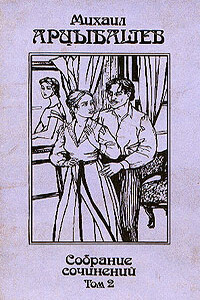
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

Истинным ценителям черной прозы, готики, хоррора. Потусторонний мир глазами русских писателей-мистиков. Здесь нет кровавой расчлененки, демонов, разрывающих на куски блондинок и прочих «страшилок», которые мы привыкли находить под обложками книг обозначенных как «ужасы». Это скорее "темная проза", мрачная философия о человеческом одиночестве… Но прочесть эту книгу следует обязательно! Хотя бы за красоту слога и стиля.Только самое страшное, леденящее кровь и душу, жуткое, но при этом безумно красивое. Враждебный холод зеркал, выходы в астрал, осознанные сновидения, сатанинские ритуалы и пограничные состояния.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
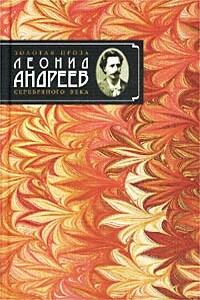
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
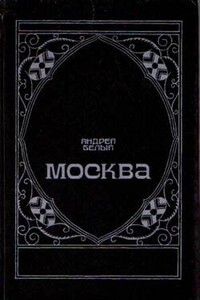
Романы Андрея Белого "Московский чудак", "Москва под ударом" и "Маски" задуманы как части единого произведения о Москве. Основную идею автор определяет так: "…разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигенстком кругу". Но как у всякого большого художника, это итоговое произведение несет много духовных, эстетических, социальных наблюдений, картин.
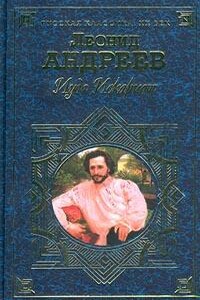
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.