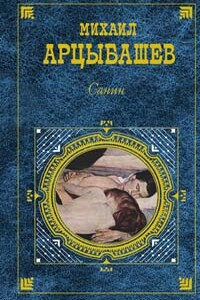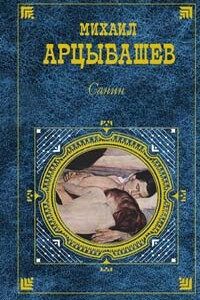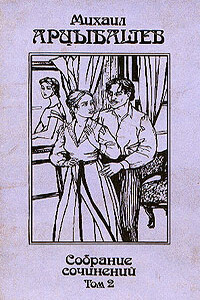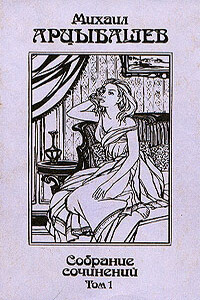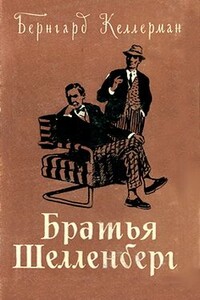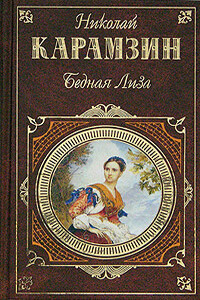Только это нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие домыслы.
7.29. Екклезиаст
То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле.
Он не был дома много лет и, когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его: чертами лица, голосом и манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением.
Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее пять минут тому назад. В его высокой светловолосой и плечистой фигуре, со спокойным и чуть-чуть, в одних только уголках губ, насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения, и те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то сами собой улеглись.
Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою.
Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдание и одиночество непонятого великого духа.
— Что ты на меня так смотришь? — улыбаясь, спросил ее Санин.
Эта внимательная улыбка, при уходящем в себя взгляде спокойных глаз, была постоянным выражением его лица.
И, странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу.
Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала:
— Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?
— Что делал? — переспросил Санин, улыбаясь. — Что ж… пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал…
Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе, но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что ему совершенно безразлично, как относятся к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково ровно на все.
Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорил брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его, и она стала дичиться и смущаться, как чужого.
Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада.
Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело.
Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках.
Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности, была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что — Лида не могла уловить. А так выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал.
Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки.
— Да ты разве умеешь шить? — с обидным недоумением невольно отозвалась Лида, ей показалось это некрасивым, не по-мужски.
— Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился, — с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида.
Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно, проснувшись утром с мечтою о солнце, увидела небо серым и холодным.
Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но когда заметила, что он слушает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением, точно сын нарочно поддразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился, он даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми безразличными глазами и молчал. Только на вопрос: «Да как же ты жить будешь?» — ответил, улыбаясь: «Как-нибудь!»