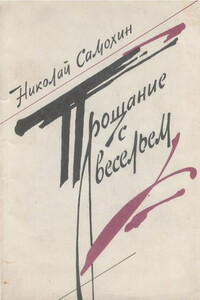Когда наступили сумерки, Карабуш, медленно, тяжело ступая, направился к Николаю. Он понимал, что этого не следует делать, но он шел к нему. Он любил всей душою этого человека, ему захотелось побыть хоть один миг среди его родных, быть хоть на секунду гостем в его доме, а люди, побывавшие друг у друга в гостях, остаются друзьями на долгие годы.
Карабуш кивком спросил, можно ли ему, старому человеку, гражданскому лицу, молдаванину, сесть рядом на ту картофельную ботву. Николай, все еще не возвращаясь из своим краев, обрадованно кивнул: конечно, что за разговор!
И Карабуш сел. Они сидели молча, над ними билось синее высокое небо, мерцали звездочки, из степи несло прохладой, кругом светились окна, множество огоньков, пахло вкусным ужином и для них, и для тех, среди которых они жили. Хлеб, дом, родная душа — чего же еще…
Потом Карабуш низким голосом, почти шепотом, спросил, нет, не он спросил, а его рвущееся к жизни существо, его мечта, его руки, слывшие когда-то счастливыми, спросили тихо:
— Ну а как оно там, в колхозе?
Николай вздрогнул. Он вернулся в строй, война еще не кончилась. Косо посмотрев на своего соседа, сутулого, смуглого, выгоревшего под южным солнцем человека, сказал с убийственной простотой:
— Тяжко там сейчас.
И, улыбнувшись, как бы взяв на себя все неурядицы, сказал:
— Но, конечно, потом, когда кончится война…
Карабуш никогда не смог простить Тинкуце, что она, одухотворенная глупой бабьей стряпней, как раз в тот момент пришла к ним в садик и, глядя на Николая, сказала Онакию:
— Стынут ведь, и жалко, такие вкусные получились…
Они пришли в дом, но ужинать не могли. Кусок в горло не лез. Они выпили по две стопочки, Николай сказал, что все, кроме кабины, закружилось, и пошел в машину спать.
Онакий долго ворочался с боку на бок, потом засосала какая-то болезненная дремота, а когда на рассвете он вышел во двор, ему показалось, что обрушилось небо над бедной Чутурой и омыло все-все, чем она жила. Во дворе не было уже ни солдата, ни его машины. В сенях не висела его шинель, в доме, под лавкой, не было автомата. Бледный, дрожащий, Карабуш оделся, побежал по деревне, готовый всей своей жизнью заручиться за Николая, готовый идти на все, лишь бы вернуть солдата к себе в дом, но защищать его было не перед кем.
Они были солдатами, шла война. Они снялись ночью, уехали молча колонной, и во всей Чутуре ни одного солдата, ни одной машины. Только на предутренней росе темнели следы колес, как бы прощаясь, благодаря за гостеприимство и обещая скоро вернуться.
Они были уже далеко, но Карабуш не мог не проводить своего гостя. Он вышел на старую Памынтенскую дорогу и пошел медленно до самых Памынтен. Он шел, по-отцовски провожая Николая, желая ему всего, что считал хорошим в жизни. Перед самым райцентром он остановился — дальше идти было нечего. Свернул с дороги, пошел по свежевспаханной земле. Взял комок, смял его крепкими ладонями и вдруг, решившись, забросил высоко в небо, на лету схватил все, до единой пылинки, и его лицо засияло — удача. Она вернулась к нему, его руки снова стали везучими для деревни, а счастье простых рук землепашца — это было единственное, ради чего жил Онакий Карабуш.
Домик в три окошка по-прежнему стоял окаменевший в своем горе, но это уже не так волновало местное начальство. То, что там уже принимали русского, переводило дом в другой разряд. К тому же, как сказано в народе, жизнь прожить — не поле перейти…
По вечерам Нуца стала бегать к своим соседям и со слезами на глазах упрашивала «занять» ей на ночь ребенка, не то она околеет или сойдет с ума от бессонницы. Она баловала и ласкала соседских ребятишек, морила их бесконечно длинными сказками, а Чутура посмеивалась: скажите, как легко эта дочка Карабуша нашла нужных ей дураков! Пятый год ночует без мужа, никогда ничего не боялась, а то вдруг стала маяться.
Нуца торопила себя с утра до вечера. Она все умела, все горело у нее в руках. Когда она крутила перевясла, так это были перевясла; если она возилась с цветами, так это были цветы. Ее беленький домик, ловко подпоясанный узкой полоской синьки, стоял целые дни с открытыми окнами, проветривался, улыбался, кого-то ждал, а чутуряне шли мимо, посмеиваясь: что за лицемерие! Всю войну этот домик простоял с завешенными окнами, на дверях замок висел неделями, а то вдруг хозяйка вот вернулась и ждет не дождется.
Нуца бегала к старым чутурянам и советовалась по всякому пустяку: как они думают, что бы ей предпринять? И так как будто хорошо, и этак было бы неплохо. Местные старики, обожавшие беспомощных молодух, одаривали ее самыми толковыми советами, да только Чутура, прислушиваясь к этим умным беседам, многозначительно переглядывалась. Еще совсем недавно Нуца норовила жить своим умом, пыталась даже других поучать, а теперь она не знает, как ей быть, теперь она глупый несмышленыш и может погибнуть без добрых людей.
Нуца подоставала свои самые некрасивые наряды. Она мечтала пройти по деревне так, чтобы ни один мужик, встретив ее, не потерял нить своих размышлений, и Чутура прямо диву давалась: скажите, какая скромность! Прожив всю жизнь на виду всей деревни, она никогда не лезла в монашки, заставить ее покраснеть могли только считанные по пальцам остряки, а тут такая невинность!