Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [98]
Слова лирического героя Пастернака о себе и своем поэтическом призвании (знаком которого служит перстень) как об «изделии» Бога проводят решительную грань, не позволяющую отождествить его жизнь и поэтическое призвание с Богочеловеком и его искупительной миссией. Это именно то отождествление, к которому с такой охотой стремились и которого с такой видимой легкостью достигали мессианские фигуры романтической и неоромантической (символистской) эпохи.
В том, как Пастернак понимал миссию искусства — его добровольный уход из мира разумного, в полном сознании огромности того, от чего приходится отказаться, — видна мессианская жертвенность, заключающая в себе прозрачную параллель с искупительной жертвой Вочеловечения. Главная особенность пастернаковской версии imitationis Christi состоит в глубине, с какой им переживается погружение в вещный мир. Субъект Пастернака никогда не забывает о своей природе человека — «изделия», «сотворенного» существа. В самой его миссии подвиг неотделим от чисто «человеческого» ощущения преступной страсти и нарушенного обета. Его жизнь — не мистерия с предрешенным «распорядком действий» (какой она представляется поэтическому зрению Живаго), но действительное погружение в неопределенность, самый исход которого — поражение? победа? завоеванное искусством для человечества бессмертие? гибель в океане пошлости? — теряется в обступившем хаосе. Важнейшим условием этого состояния, без которого оно теряет свой смысл, является отсутствие какой-либо «задней мысли» о последней и высшей инстанции, об абсолютном порядке, парящем над броуновским движением частиц существования, — будь то порядок трансцендентального разума или религиозного откровения. Вернее — субъект сознает присутствие этих высших ценностей, но не позволяет себе стать под их защиту, использовать их инструментально, для того, чтобы облегчить тяжесть существования в мире хаоса. Он знает, что божественные «дела» (примечательна сама сниженность этого наименования) совершенны; но их совершенство открывается ему не в видениях грандиозного и возвышенного, а в постелях, людях и стенах жалкой и ужасной, неотличимой от тюрьмы советской больницы.
В этом состоит, по моему убеждению, сущность поистине удивительного конфессионального молчания Пастернака на протяжении большей части жизни. Поздний «приход» Пастернака к христианству — столь же полный и отчетливо заявленный, как ряд его ранних «уходов», — дает повод усмотреть в этом событии влияние текущих обстоятельств, как личных, так и политических, и тем самым локализовать его в качестве ситуативного феномена, не имевшего существенного значения для самосознания и творчества поэта на протяжении большей части его жизни[217]. Несмотря на внешнюю логичность такого вывода, позволю себе с ним решительно не согласиться. Дело даже не в возможных контраргументах, таких как глубокое, хотя по большей части косвенное, выражение христианского мироощущения в «Детстве Люверс», или то огромное место, которое в духовном мире Пастернака на протяжении всей его жизни занимали Рильке и Толстой. (У меня нет намерения всерьез обсуждать предположительное возражение, что у Толстого Пастернака могла интересовать «только» его этика, а у Рильке — «только» поэтика.) Ключевое значение для понимания этого видимого противоречия имеет, как мне кажется, понимание самим Пастернаком характера его дела как художника.
Пастернак избегает прямо апеллировать к религиозному познанию мира точно так же, как он избегает прямо апеллировать к познанию философскому, — не потому, что эти предметы для него не важны, а напротив, потому, что слишком важны. Отказ от духовного комфорта, доставляемого принятием над-эмпирической перспективы, с ее отсутствием «основания для заблуждения», составляет центральный нерв художественного самосознания Пастернака. В этой позиции апеллировать к абсолютному непосредственно, постоянно напоминая о своей уверенности в его соприсутствии в разрозненности повседневного бытия, — значило бы превратить миссию в театр «представления», о котором и самому актеру, и зрителям заранее известно, что все его перипетии, какими бы драматичными они ни были, действительны лишь пока длится пьеса. То, что Пастернак не спешит (подобно Иванову) с резонерским напоминанием о высшей и последней инстанции символической вертикали, к которому обращена вся «чехарда» эмпирических сообщений, не следует понимать ни как апофатическую позицию, ни как религиозный индифферентизм. Напротив, декларирование своей уверенности в конечном смысле — пусть лишь в модусе мистического откровения — означало бы в системе ценностей Пастернака духовную капитуляцию, отказ от тяжести неустанной духовной работы в условиях мучительной неопределенности.
Медленно, шаг за шагом, Пастернак двигался к тому, чтобы оказаться способным говорить «во весь голос» о трансцендентном ядре бытия. То, что в начале века многим его ровесникам и старшим современникам эта проблема доставалась как будто без особого труда, буквально из воздуха эпохи, обрекало его, глубоко осмыслившего всю ее тяжесть, на всяческие уклонения и околичности — «как иное увечье обрекает на акробатику» (ОГ I: 6).
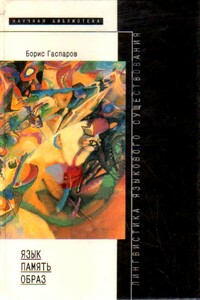
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
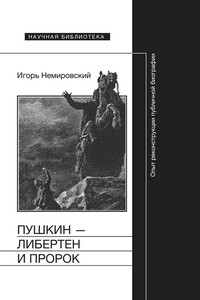
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.