Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [96]
Замечательна типичная для лирического зрения Пастернака скорость, с которой поэтический взгляд перемещается с предмета на предмет, мгновенно выхватывая, точно из мрака (в данном случае — реально из тьмы ночных улиц и полумрака приемного покоя, к тому же сквозь полубессознательное состояние больного), осколки впечатлений. Мы слышим — косвенно, точно в отголоске, — грубый окрик милиционера, заставляющего расступиться столпившихся на «тротуаре»: ‘Ну что стали, как перед витриной!’; ощущаем с физической конкретностью резкую поспешность, с которой санитар вталкивает носилки и вскакивает в уже тронувшуюся машину; из полумрака приемного покоя зрение на мгновение выхватывает фигуру полусонной приемщицы, кое-как «марающей» опросный листок, а потом, уже в больничном коридоре, сиделки, по-крестьянски жалостливо качающей головой. Само впечатление героя от больницы отражает опыт человека, привыкшего иметь дело с привилегированными медицинскими учреждениями; в «смертную кашу» (как ее назвал Пастернак в письме к Фрейденберг) обычной городской больницы он попал случайно, из-за полной внезапности события[213]. Но и это впечатление передано двумя фрагментарными, физически осязаемыми деталями: холодом, веющим от окна, и резким запахом йода.
О содержании вопросов к пациенту и его ответов при приеме в больницу мы кое-что узнаем из мимолетного следа, оставленного словом «переделка», которым он сам определяет свое положение. Словечко завоевало широкую популярность в годы войны, и неудивительно, что оно пришло герою стихотворения на память. Однако читатель стихотворения не может не заметить личный подтекст, отождествляющий лирического героя непосредственно с автором стихотворения, — ассоциацию с «Переделкино». По-видимому, герой возвращался вечером из Москвы к себе на дачу (о чем он и сообщает на вопрос об обстоятельствах случившегося с ним несчастья), и мысль о доме, до которого ему не суждено было доехать, притягивает по ассоциации выражение «попал в переделку».
Другой сигнал того, как близок лирический герой стихотворения его автору, можно заметить в строке «Милиция, улица, лица». На лихорадочно отрывочные впечатления героя наслаивается воспоминание о картине городских сумерек у раннего Маяковского: «Улица. Лица у догов годов резче». Добавление «милиции» к «улице» и «лицам» являет собой очередной сдвиг в новую действительность, типичный для лирики Пастернака советского периода. (Впрочем, «милиция», и именно в сочетании с «улицей», появлялась у Пастернака уже раньше, хотя в ином значении: стихотворение «Свистки милиционеров» из «Сестры моей — жизни» (1919) первоначально имело заглавие «Уличное»[214]. Таким образом, «милиция» 1956 года являла собой двойной сдвиг: как добавление к уличному пейзажу 1913 года у Маяковского и как трансформация «милиционеров» Февральской революции в советскую «милицию».) Именно с Маяковским — вернее, с его смертью — Пастернак ведет напряженный диалог и в первой автобиографии, и во второй, написанной в том же году, что и «В больнице». Воспоминание о Маяковском, навеянное мельканием вечерних улиц, всплывает в сознании лирического субъекта, как тайный голос memento mori («Так это не второе рождение? Так это смерть?»).
Интересно в этом стихотворении то, что мелькание отрывочных впечатлений, вообще характерное для Пастернака, получает здесь реальную мотивировку: мы видим их такими, какими они предстают самому лирическому субъекту, доносясь до его сознания сквозь полуобморочный туман. Настойчивое нагнетание образов «мелькания» и «покачивания» (от уличных фонарей и тряской санитарной машины до тополя — одного из излюбленных природных агентов пастернаковской лирики, — отвешивающего свой «поклон» больному в окно), к которому затем прибавляются наркотические «пары иода», передает усиливающееся гипнотическое затемнение сознания больного, его погружение в бред. Ситуация возвращает нас к «месмерическому» бреду заболевшего ребенка в стихотворении «Зеркало». Картина, явившаяся его герою при пробуждении — зеркало с отражением сада, испаряющееся какао в чашке, — причудливым образом напоминает о себе в больничных впечатлениях: тополь в квадрате окна, «пары иода»; их смысл, однако, кардинальным образом отличается от того раннего откровения — отличается так, как отличается обещание или предчувствие от его исполнения.
Еще одна линия ассоциаций, важная для понимания смысла происходящего, связана с образами ареста и тюрьмы. Тут и милиция, и резкая торопливость, с которой «вталкивают» носилки и машина немедленно берет с места, мгновенно исчезая «во мраке», — прозрачное напоминание об известных по рассказам (а некоторыми и виденных) сценах мгновенных арестов на улицах послевоенной Москвы. В этот же ряд встраивается и «опросный листок», и переполненность больницы, и, наконец, поистине тюремный вид из окна.
Но эта грубая, мрачная, угрожающая действительность проникнута отрывочными, едва заметными знаками инобытия. Выражение «пары иода» заставляет вспомнить о серных парах, составляющих (вместе с леденящим холодом) характерную примету дантевского инфернального пейзажа и его позднейших поэтических отображений. Вид в окне на глухую стену, на которой играют мелькающие отсветы городского движения, напоминает о платоновской пещере. В этом контексте ассоциации с арестом и заключением получают смысл пленения в земном существовании. Сама почти сверхреальная степень, до которой опустилась, опростилась, огрубилась действительность, позволяет ей — в затуманенном сознании умирающего — предстать неким пограничным миром, почти уже за гранью человеческого обитания.
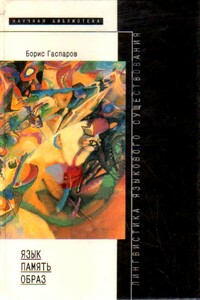
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
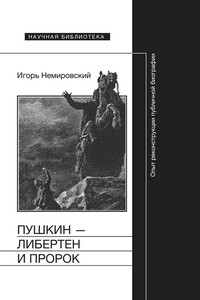
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.